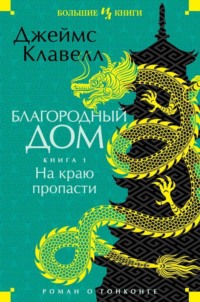Полная версия
Гайдзин
– Он потерял все: свое дело, ваши средства.
Она охнула:
– Всё? Мои средства тоже? Но он не может!
– Мне искренне жаль, но может и уже сделал. Закон позволяет ему это: вы его дочь, вы не замужем, не говоря уже о том, что вы несовершеннолетняя, он ваш отец и вправе распоряжаться и вами, и всем, что вам принадлежит, но вам, разумеется, это и так известно. Еще раз извините, мне очень жаль. У вас есть какие-нибудь еще деньги? – поинтересовался он, зная, что у нее не осталось ни гроша.
– Простите? – Она вздрогнула всем телом и постаралась заставить свой мозг мыслить ясно.
Неожиданность, с которой ей открылось, что второй из ее самых ужасных страхов стал теперь реальностью и достоянием гласности, в клочья разодрала тот столь тщательно свитый кокон, в котором она пыталась спастись.
– Откуда… откуда вам известно все это? – запинаясь, пробормотала она, слепо ища руками какую-нибудь опору. – Мои, мои средства принадлежат мне… Он обещал.
– Он передумал. А Гонконг – та же деревня, в Гонконге нет секретов, Анжелика, ни там, ни здесь ничего нельзя утаить. Сегодня я получил послание с нарочным из Гонконга, от одного из деловых партнеров. От него я узнал детали – он был в то время в Макао и видел всю катастрофу своими глазами. – В голосе его слышалась дружеская озабоченность, таким и должен был быть голос друга, но говорил он только половину правды. – Он и я… Мы… Нам принадлежат некоторые из векселей вашего отца, он брал у нас деньги в прошлом году и до сих пор не вернул.
Новый страх пронзил ее.
– Разве… мой отец не платит по векселям?
– Н-нет, боюсь, что нет.
С болью в сердце она думала о письме своей тетушки и теперь знала точно, что деньги, которыми ссудил ее дядя, тоже не были возвращены, и он сейчас в тюрьме, потому что… «Возможно, он попал в тюрьму из-за меня, – хотелось закричать ей. Она отчаянно пыталась держать себя в руках, молясь, чтобы все это оказалось сном. – О боже, о боже, что же мне делать?»
– Я хочу, чтобы вы знали, если я могу помочь, пожалуйста, только скажите мне.
Ее голос вдруг стал пронзительным:
– Помочь мне? Вы растоптали мой покой, если то, что вы говорите, правда. Помочь мне? Зачем вы рассказали мне все это именно сейчас, зачем, зачем, зачем, когда я была так счастлива?
– Лучше, если вы узнаете об этом прямо сейчас. И лучше от меня, чем от врага.
Ее лицо перекосилось.
– Врага, какого врага? С какой стати у меня должны быть враги? Я никому ничего не сделала, ничего, ничего, ниче…
Слезы хлынули у нее из глаз. Не в силах сдержаться, он на мгновение сочувственно обнял ее, потом положил руки ей на плечи и встряхнул.
– Прекратите! – произнес он с напускной резкостью. – Ради бога, прекратите, неужели вы не видите, что я хочу помочь вам!
По другой стороне улицы к ним приближалось несколько мужчин, но он заметил, что все они шатаются и заняты только собой. Больше поблизости не было никого, только далеко позади них люди все так же спешили в клуб; тень здания прятала их от посторонних глаз. Он снова встряхнул ее, и она простонала:
– Вы делаете мне больно! – Но слезы прекратились, и она пришла в себя.
Отчасти пришла в себя, холодно подумал он; этот самый процесс повторялся для него уже, наверное, в сотый раз, различаясь всегда лишь степенью жестокости и искажения правды в отношении других невинных душ, которых ему нужно было использовать ради возвеличения Франции, – и при этом насколько легче было иметь дело с мужчинами, чем с женщинами. Мужчин ты просто пинал промеж ног, или обещал отрезать то, что там болтается, или втыкал иголки… Но вот женщины! Отвратительное это дело – обращаться с женщинами подобным образом.
– Вы окружены врагами, Анжелика. Столько людей не хотят, чтобы вы вышли замуж за Струана, его мать будет препятствовать этому всеми доступными ей…
– Я никогда не говорила, что мы собираемся пожениться. Это… это слухи, слухи, ничего больше!
– Merde! Конечно это правда! Он ведь уже сделал вам предложение, не так ли? – Он снова потряс ее, его пальцы сжимали ее плечи, как стальные скобы. – Не так ли?
– Мне больно, Андре… Да, да, он сделал мне предложение.
Он протянул ей платок, сразу смягчившись:
– Вот, вытрите глаза, у нас мало времени.
Она смиренно подчинилась, опять начала плакать, потом одернула себя:
– Почему вы такой ужасны-ы-ый?
– Я единственный настоящий друг, который у вас здесь есть, я целиком на вашей стороне, готов помочь, единственный верный друг, которому вы можете доверять, – я ваш единственный настоящий друг, клянусь вам, только я один могу вам помочь. – Обычно он с жаром добавлял «клянусь Господом Богом», но сейчас решил, что она уже крепко сидит на крючке, и оставил это на потом. – Лучше вам выслушать всю правду, пока никто об этом не знает. Теперь у вас есть время, чтобы подготовиться. Эта новость прибудет сюда не раньше чем через неделю; у вас есть время сделать вашу помолвку торжественной и официальной.
– Что?
– Струан ведь джентльмен, не так ли? – Ему потребовалось сделать над собой усилие, чтобы произнести это без издевки. – Английский… виноват, шотландский – в общем, британский джентльмен. Разве они не считают себя с гордостью людьми слова? А? Как только о помолвке будет объявлено официально, он уже не сможет взять свое слово назад, окажетесь вы нищей или нет, – что бы ни сделал там ваш отец и что бы ни говорила его мать.
«Я знаю, я знаю! – хотелось кричать ей. – Но я женщина, и я должна ждать, я ждала, и вот теперь стало слишком поздно. Или нет? О Пресвятая Богородица, помоги мне!»
– Я не… я не думаю, что Малкольм станет винить меня за моего отца или… или слушать свою мать.
– Боюсь, ему придется ее слушаться, Анжелика. Вы забыли, что Малкольм Струан тоже несовершеннолетний, каким бы большим тайпаном он ни был? Двадцать один ему исполнится только в мае будущего года. До тех пор она может налагать на него всевозможные юридические ограничения. По английскому закону она даже может объявить помолвку недействительной. – Он не был полностью в этом уверен, но это казалось ему разумным и было правдой в отношении французского закона. – Она может давить и на вас. Возможно, даже подаст на вас в суд, – добавил он с печальным лицом. – Струаны очень могущественны в Азии, это почти что их родовое владение. Она вполне смогла бы добиться, чтобы вас вызвали в суд, а вы знаете, что люди говорят о судьях, любых судьях, а? Она могла бы сделать так, что вас приволокут к магистрату и обвинят в том, что вы кокетка, обманщица, просто нацелившаяся на его деньги, а то еще в чем-нибудь и похуже. Она могла бы нарисовать перед судьей очень неприглядную картину: ваш отец – игрок и пьяница, к тому же банкрот, ваш дядя сидит в долговой яме, сами вы – без гроша, искательница приключений; а вы слушали бы ее со скамьи подсудимых, не имея возможности защититься.
На ее лице появилось затравленное выражение.
– Откуда вы узнали про дядю Мишеля? Кто вы?
– Никакого фокуса тут нет, Анжелика, – небрежно ответил он. – Сколько французских граждан живет в Азии? Не много, второй такой, как вы, вообще нет, а люди любят сплетничать. Что до меня, то я Андре Понсен, китайский торговец, японский торговец. Меня вам нечего бояться. Мне от вас не нужно ничего, кроме дружбы и доверия, и я хочу вам помочь.
– Как? Мне ничто не поможет.
– Нет, это не так, – мягко возразил он, внимательно наблюдая за ней. – Вы ведь любите его, не правда ли? Дай вам шанс, вы были бы лучшей женой, какую может пожелать себе мужчина, разве нет?
– Да, да, конечно…
– Тогда подтолкните его, очаруйте, убедите его – любым способом, каким сможете, – официально объявить о вашей помолвке. Возможно, я смогу подсказать вам что-нибудь, направить вас. – Теперь наконец он видел, что она по-настоящему слушает его, действительно его понимает. Мягко он нанес свой coup de grâce[20]. – Мудрая женщина, а вы мудры столь же, сколь и прекрасны, вышла бы замуж быстро. Очень быстро.
Струан читал, масляная лампа на столике у кровати давала достаточно света, дверь в ее комнату была приоткрыта. Его постель была удобной, и он с головой ушел в книгу. Его шелковая ночная рубашка подчеркивала цвет его глаз, лицо все еще оставалось бледным и худым, даже тени былой силы не было в нем. На столике рядом с лампой стоял снотворный настой, тут же лежали его трубка, табак и спички, стоял еще один стакан – с водой, в которую добавили немного виски.
– Это пойдет вам на пользу, Малкольм, – сказал ему Бебкотт. – Лучшего лекарства на ночь для вас сейчас не найти, только разбавляйте побольше. Это лучше, чем опиумная вытяжка.
– Без нее я не могу уснуть всю ночь и чувствую себя ужасно.
– Сегодня уже семнадцатый день после ранения, Малкольм, вам пора остановиться. Остановиться по-настоящему. Плохо, если для сна вам будет необходимо лекарство. Лучше всего прекратить принимать его навсегда.
– Я уже пробовал сделать это раньше, и ничего не получилось. Я брошу его пить через день или два…
В комнате было тихо и уютно, тяжелые занавеси на окнах были задернуты на ночь, мирно тикали красивые швейцарские часы. Время близилось к часу ночи. Книгу «Убийства на улице Морг» Эдгара Аллана По сегодня утром ему принес почитать Дмитрий.
Струан был так поглощен своей книгой, что не слышал, как входная дверь в ее комнату открылась и закрылась, не слышал, как она на цыпочках прошла через комнату, не видел, как она на мгновение заглянула к нему, потом исчезла. Через секунду раздался едва слышный щелчок – закрылась дверь ее спальни.
Он поднял глаза, напряженно вслушиваясь. Уходя, она сказала, что заглянет к нему, но, если он будет спать, будить его не станет. Или, если она слишком устанет, отправится прямиком в постель, тихо как мышка, и увидится с ним утром.
Книга лежала у него на коленях. С усилием он сел прямо и свесил ноги через край кровати. Это он еще мог вынести. Но не встать. Встать ему пока было все так же не под силу. Сердце тяжело стучало в висках; он почувствовал тошноту и лег. И все же немного лучше, чем вчера. «Нужно пытаться, что бы ни говорил Бебкотт, – угрюмо сказал он себе, потирая живот. – Завтра попробую снова, три раза. Может быть, оно и к лучшему, что я не могу встать. Я бы захотел быть с ней. Господи, помоги мне, я бы не смог без этого».
Когда боль немного улеглась, он опять взялся за чтение, радуясь, что книга у него под рукой, но теперь она уже не так занимала его, мысли разбредались, и его разум принялся смешивать прочитанный рассказ с картинами, в которых ее готовились вот-вот убить, кругом какие-то трупы, он бросается, чтобы защитить ее, картины сменяют одна другую, становясь все более эротическими.
Через некоторое время он отложил книгу, отметив страницу закладкой, которую она ему подарила, закладкой из ее дневника. «Интересно, что она пишет в нем. Я знаю, она ведет записи так же регулярно, как и любой другой. Обо мне и о ней? О ней и обо мне?»
Теперь он чувствовал огромную усталость. Его рука потянулась к лампе, чтобы прикрутить фитиль, и остановилась. Маленькая рюмка со сном внутри манила. Его пальцы дрожали.
Бебкотт прав, это мне больше не нужно.
Он решительно потушил свет, откинулся на спину и закрыл глаза, вознося молитву о ней, о своей семье, о том, чтобы его мать благословила их, а потом о себе. «О Господи, помоги мне выздороветь – мне страшно, очень страшно».
Но сон не шел к нему. Когда он поворачивался или пытался устроиться поудобнее, боль прорезала внутренности, и он тут же вспоминал Токайдо и Джона Кентербери. Он завис в какой-то тяжкой полудреме, мозг его гудел от прочитанного: жуткое, леденящее кровь начало, а какова будет развязка? Перед его внутренним взором мелькали всевозможные картины, все новые и новые, злые, прекрасные, образные, и любая попытка поменять положение расцветала на них багровыми пятнами боли.
Время шло, минул час или несколько минут, он не мог сказать точно, и тогда он выпил эликсир и блаженно расслабился, зная, что скоро будет парить в воздухе на тонком, прозрачном газе, ее рука на нем, его рука на ней… там, на ее груди… везде… ее руки в ответ столь же опытны, столь же желанны… не только руки.
Глава 15
Пятница, 3 октября
Едва лишь рассвело, Анжелика выбралась из кровати и присела за туалетный столик в эркере, выходившем окном на Хай-стрит и гавань. Она совсем измучилась. В запертом ящичке лежал ее дневник в обложке из тусклой красной кожи. Он тоже запирался. Из потайного места она извлекла ключ, отомкнула застежку, обмакнула ручку в чернила и написала, беседуя с дневником, словно со старым другом, – последние дни ей казалось, что дневник стал теперь ее единственным другом, только с ним она еще могла говорить откровенно:
Пятница, 3: еще одна тяжелая ночь, и я чувствую себя отвратительно. Прошло четыре дня после того, как Андре сообщил мне ужасную весть о моем отце. С тех пор я была не в состоянии ни писать, ни делать что-либо, заперла все двери и «слегла», притворившись, что у меня жар. Лишь раз или два за день я выхожу навестить моего Малкольма, чтобы развеять его тревогу, все же остальное время не отпираю никому, кроме моей горничной, которую я терпеть не могу, правда я согласилась встретиться с Джейми один раз и с Андре.
Бедный Малкольм, в первый день моей «болезни», когда я не появилась и не стала никому открывать, он чуть с ума не сошел от беспокойства и все настаивал, чтобы его отнесли на носилках в мой будуар и он смог увидеть меня хотя бы таким образом – даже если для этого пришлось бы выломать дверь. Мне удалось опередить его, я заставила себя пойти к нему и сказала, что со мной все хорошо, просто у меня сильно разболелась голова, и – нет, мне не нужен Бебкотт, а ему не стоит переживать из-за моих слез. Я объяснила ему по секрету, что у меня просто наступило «то самое время месяца» и кровотечение иногда бывало обильным, а иногда не наступало в срок. Он был невероятно смущен тем, что я упомянула про свои месячные! Просто невероятно смущен! Словно и не знал ничего об этом свойстве женского организма. Порой я совсем не понимаю его, хотя он так добр и заботлив, самый добрый и заботливый из всех, кого я знала. Еще одно расстраивает меня: если говорить правду, ему, бедному, не намного лучше, и каждый день он так страдает, что мне хочется плакать.
«Матерь Божья, дай мне силы! – думала она. – Ведь это еще не самое страшное. Я стараюсь не волноваться, но я в отчаянии. День приближается. Тогда я освобожусь от этого ужаса, но останется еще нищета».
Она начала писать снова.
В этом здании так трудно спрятаться и побыть одной, каким бы уютным и красивым оно ни было, но жизнь в Поселении просто ужасна. Ни парикмахерши, ни дамского портного (хотя у меня есть портной-китаец, который просто изумительно копирует то, что уже существует), ни шляпника – я еще не спрашивала, можно ли здесь заказать туфли. Пойти некуда, заняться нечем – о, как я скучаю по Парижу, но как я теперь вообще смогу там устроиться? Согласился бы Малкольм уехать отсюда, если бы мы поженились? Никогда. А если мы не поженимся… где я найду денег даже на билет домой? Где? Я спрашивала себя тысячу раз и не находила ответа.
Ее задумчивый взгляд оторвался от бумаги и перешел на окно и на корабли в заливе. «Как бы я хотела оказаться на одном из них, держа путь домой. Зачем, зачем только я сюда приехала? Я ненавижу это место… Что, если… Если Малкольм не женится на мне, мне придется выйти замуж за кого-то другого, но у меня нет приданого, ничего нет. О боже, я надеялась, что все сложится совсем иначе. Даже если мне и удастся вернуться домой, у меня по-прежнему нет денег, бедная тетушка и дядя разорены. Колетта мне помочь не сможет, я не знакома ни с кем достаточно богатым или знатным, чтобы выйти за него замуж, или занимающим достаточно видное положение в обществе, чтобы можно было без опасений стать его любовницей. Я могла бы пойти на сцену, но и там необходимо иметь патрона, который будет подкупать директоров и драматургов, платить за все наряды, драгоценности, экипажи и роскошный особняк для вечерних приемов, – разумеется, с патроном приходится спать, и по его прихоти, а не по своей, пока ты не станешь достаточно богатой и знаменитой, на что требуется время, а у меня нет ни нужных связей, ни друзей с такими связями. О Господи, я совсем не знаю, как мне быть. Мне кажется, я сейчас опять расплачусь…»
Она уронила голову на руки, и слезы хлынули из глаз. Анжелика старалась плакать не слишком громко, чтобы горничная не услышала ее рыданий и не начала горестно завывать во весь голос вместе с ней, устроив дикую сцену, как в первый день. Она сидела в ночной рубашке из кремового шелка, набросив на плечи бледно-зеленый пеньюар; нерасчесанные после сна волосы спутались. Комната была обставлена для мужчины, с огромной кроватью под пологом на четырех столбах – эти апартаменты были гораздо просторнее тех, что у Малкольма. С одной стороны располагалась та самая передняя, которая соединялась с его спальней и из которой другая дверь вела в столовую на двадцать человек с отдельной кухней. Обе эти двери были заперты. Туалетный столик являлся единственной фривольностью, которую она себе позволила; она распорядилась, чтобы его занавесили розовым атласом.
Когда слезы прекратились, она вытерла глаза и молча рассмотрела свое отражение в серебряном зеркале. Никаких морщин, чуть потемнели веки, и щеки едва заметно похудели. Внешне – никаких перемен. Она тяжело вздохнула и опять вернулась к дневнику:
Слезы просто не помогают: сколько я ни плачу, легче не становится. Сегодня я должна поговорить с Малкольмом. Просто должна. Андре сообщил мне, что пакетбот уже запаздывает на один день и известие о моей катастрофе непременно прибудет с ним. Или с ней. Я в ужасе оттого, что сюда может приехать мать Малкольма – весть о его ранении должна была достичь Гонконга 24-го, это дает ей как раз достаточно времени, чтобы успеть на этот самый пакетбот. Джейми сомневается, что ей удастся приехать, слишком уж мал срок, чтобы она успела подготовиться к отъезду: остаются ведь другие дети, ее муж умер всего три недели назад и по нему все еще соблюдается глубокий траур, бедная женщина.
Когда Джейми был здесь, я в первый раз по-настоящему беседовала с ним наедине, он рассказал мне много всяких историй про других Струанов – шестнадцатилетнюю Эмму, тринадцатилетнюю Розу и десятилетнего Дункана, – большей частью печальных историй: в прошлом году два других брата Малкольма, близнецы Роб и Данросс семи лет, утонули, когда их лодка перевернулась совсем недалеко от берега; это произошло в местечке, которое называется Шек-О, у Струанов там летний дом и участок земли. А много лет назад, когда Малкольму было семь, другая его сестра, Мэри, умерла от лихорадки. Бедная крошка, ей было всего четыре годика. Я проплакала всю ночь, думая о ней и о близнецах. Умереть такими маленькими!
Джейми мне нравится, но он такой скучный, такой нецивилизованный – я хочу сказать, неотесанный, больше ничего, – он ни разу не был в Париже и только и может говорить что про свою Шотландию, Струанов и Гонконг. Интересно, могла бы я настоять, если… – Она зачеркнула это и исправила на «когда мы поженимся»… Ее ручка замерла в нерешительности. – Мы с Малкольмом станем проводить по нескольку недель в Париже каждый год, и наши дети будут воспитываться там. Разумеется, в католической вере.
Мы с Андре говорили об этом вчера, о том, что я католичка, – он очень добр и снимает с моей души все проблемы и тревоги, как это неизменно делает его музыка, – и о том, что миссис Струан кальвинистская протестантка и что мне следует говорить, если об этом зайдет речь. Мы тихо беседовали – о, я так рада, что он мой друг и предупредил меня об отце, – вдруг он приложил палец к губам, подошел к двери и распахнул ее. Эта старая ведьма А Ток, ама Малкольма, подслушивала и едва не ввалилась в комнату. Андре немного говорит на кантонском, и он отослал ее прочь.
Когда позже днем я встретилась с Малкольмом, он долго и смиренно извинялся. Это пустяки, сказала я, дверь была не заперта, моя горничная, как и подобает, находилась в комнате вместе со мной, но если А Ток хочется шпионить за мной, пожалуйста, скажи ей, пусть постучится и входит. Признаюсь, я держалась несколько отчужденно и была холодна с Малкольмом, а он был готов буквально вывернуться наизнанку, чтобы угодить мне и успокоить, но именно такие чувства я сейчас испытываю, хотя, должна также признаться, и Андре советовал мне вести себя именно таким образом, пока о нашей помолвке не будет объявлено всем.
Мне пришлось попросить Андре – боюсь, именно пришлось – ссудить меня деньгами. Я чувствовала себя ужасно. Впервые в жизни я вынуждена была обращаться к кому-то с такой просьбой, но мне отчаянно нужны хоть какие-то деньги. Он был очень любезен и согласился принести мне завтра двадцать луидоров под мою подпись, этого хватит на неделю или две, чтобы покрыть случайные расходы, – Малкольм как будто не замечает, что мне нужны деньги, а я не хотела просить у него…
У меня действительно почти не прекращается головная боль, потому что я беспрестанно ищу какой-нибудь выход из всего этого кошмара. Нет никого, кому я могла бы полностью довериться, даже Андре, хотя пока что мне не в чем его упрекнуть. С Малкольмом каждый раз, когда начинаю свою заранее отрепетированную речь, я, еще и рта не открыв, уже знаю, что мои слова прозвучат вымученно, грубо и ужасно, поэтому замолкаю.
«В чем дело, дорогая?» – спрашивает он.
«Нет, ничего», – говорю я, а потом, когда оставлю его и запру свою дверь, я плачу и плачу в подушку. Мне кажется, я сойду с ума от горя – как мой отец мог так лгать, так обманывать меня, украсть мои деньги? И почему Малкольм не может дать мне кошелек, не дожидаясь, пока я попрошу его об этом, или не предложит мне какие-то деньги, чтобы я могла сначала притвориться, что отказываюсь, а потом с радостью принять их? Разве это не обязанность мужа или жениха? Разве не долг отца защищать свою любимую дочь? И почему Малкольм все ждет и ждет и не объявляет о нашей помолвке? Неужели он передумал? О Боже, не допусти этого…
Анжелика перестала писать, потому что слезы полились снова. Одна из них упала на раскрытую страницу. Она опять вытерла глаза, сделала несколько глотков воды из стакана, потом продолжила:
Сегодня я поговорю с ним. Я должна сделать это сегодня. Единственной доброй вестью пока было то, что британский флагман, ко всеобщей радости, благополучно вернулся в гавань несколько дней назад (мы и в самом деле совершенно беззащитны здесь без военных кораблей). Флагман пострадал и потерял одну мачту, вскоре следом за ним вернулись и остальные корабли, кроме двадцатипушечного парового фрегата под названием «Зефир», на его борту было больше двух сотен. Может быть, с ним все-таки ничего не случилось, я надеюсь, что это так. Здешняя газета пишет, что еще пятьдесят три матроса и два офицера погибли в этом шторме, тайфуне.
Он был чудовищным, я еще никогда не видела такой сильной бури. Я дрожала от страха и днем и ночью. Мне казалось, что все здание сейчас так и унесет целиком, но оно оказалось таким же непоколебимым, как Джейми Макфей. Большинство туземных построек попросту исчезли, и было много пожаров. Фрегат «Жемчужина» тоже потерял мачту. Вчера принесли записку от капитана Марлоу: «Я только что узнал о вашей болезни, посылаю вам свои глубочайшие и самые искренние соболезнования, etc.».
Я не уверена, что он мне нравится, слишком уж заносчив, хотя мундир выставляет его в самом выгодном свете и удачно подчеркивает его мужские достоинства – для чего, естественно, и придуманы тесные панталоны, точно так же как мы одеваемся, стремясь показать грудь, подчеркнуть талию, приоткрыть щиколотки. Вчера вечером принесли еще одно письмо от Сеттри Паллидара, уже второе, новые соболезнования и т. д.
Мне кажется, я ненавижу их обоих. Всякий раз когда я думаю о них, то вспоминаю об этой преисподней под названием Канагава и о том, что они не выполнили своего долга и не сумели защитить меня. Филип Тайрер по-прежнему находится в миссии в Эдо, но Джейми сказал, что, если верить слухам, Филип должен вернуться уже завтра или через день. Это очень кстати, потому что, когда он приедет, у меня есть план, ко…
Глухой рев пушечного выстрела, эхом прокатившийся над Поселением, заставил ее вздрогнуть и перенести внимание на гавань. Палили из сигнального орудия. Далеко в море ему ответила другая пушка. Анжелика посмотрела поверх корабельных мачт флота на горизонт и там увидела пресловутый столб дыма, который поднимался из трубы приближающегося пакетбота.
Джейми Макфей, сжимая под мышкой плотно набитый полученной почтой портфель, повел незнакомца вверх по парадной лестнице фактории Струанов. Потоки солнечного света вливались в здание через высокие и изящные стеклянные окна. Оба мужчины были в суконных фраках и цилиндрах, хотя день был теплый. Незнакомец нес в руке небольшой чемоданчик. Ему было за пятьдесят. Приземистый, с уродливым бородатым лицом, он был на голову ниже Джейми, хотя и шире в плечах. Из-под шляпы торчали космы длинных седых волос. Они прошли по коридору. Макфей тихо постучал: