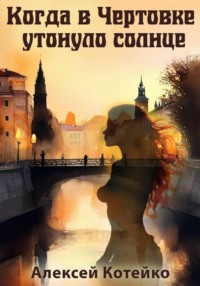Полная версия
Сказки старых переулков
В первом издательстве сказали:
– Неплохо. Но нет, нам это не подходит. Видите ли, мы издаём современную литературу. Вот если бы у вас там было про то, как ребёнку вложить на бирже свою свинку-копилку, или про то, каким политическим курсом идти нашему государству – тогда да.
Во втором издательстве сказали:
– Увлекательно. Однако, простите, не интересует. Сейчас в моде детектив. Вот если бы у вас там убивали человек десять, а лучше двадцать, и непременно чтобы со взрывом, и чтобы убийцей вдруг оказался мэр – мы бы с удовольствием взяли.
В третьем издательстве сказали:
– Забавно, да. Но у нас другой профиль. Вот если бы у вас дракону отрубали голову, а он превращался в злого волшебника, и пытался завоевать весь мир, а герой бы с ним дрался. И вот чтобы с последней битвой, и там чтобы с погонями, и драками, и мечи, и всё такое… И магией – шварх! Вот тогда да. А так – забавно, но не более.
В четвёртом издательстве печатали научную литературу. В пятом – газеты и журналы, но не брались за книги. В шестом рукопись отвергли, потому что автор не был иностранцем. В седьмом – потому что автор не был судим. В восьмом, в девятом, в десятом – всюду он слышал: «Да, интересно, но…»
Лишь в самом последнем из издательств белоснежно-седой, от бороды до кончиков усов, сверкающий гладкой лысиной крохотный хозяин, радостно пожимая ему руку, сказал:
– Это замечательно. И я с удовольствием опубликую вас, но чуть позже. Дело в том, что ваши сказки не совсем детские. Хотя это сказки, бесспорно, сказки! Пишите ещё, ни в коем случае не останавливайтесь. И если вас не затруднит – снимите для меня копию с этого экземпляра. Где-то к Новому году мы наверняка сможем найти для вашей книги местечко в издательском плане.
Осень шла своим чередом, и настала та самая пора, когда туманных дней становится много, а листьев на деревьях нет вовсе, и дожди всё идут, и идут. Профессор приходил в университет, работал на кафедре, писал планы и перепланировки, и только на лекциях, мягко улыбаясь студентам, старался рассказывать предмет так, чтобы им не было скучно.
Однажды осенним днём туман появился внезапно, как раз во время занятия. Он повис за окном седыми клочьями, и проник внутрь аудитории сонливостью, которая сморила даже самых стойких студентов. Лекция шла своим чередом, но профессор видел, что его слушают всё меньше, и меньше, и уже у него самого в голове проскользнула мысль: «Поспать бы сейчас…»
И тогда он вынул из старого портфеля рукопись.
Первые несколько строчек студенты ещё спали. Но чем дальше он читал, тем больше их просыпалось. Они слушали с удивлением, кто-то с лёгкой настороженностью, кто-то с недоумением, а кто-то со спрятанной в уголках губ улыбкой. Профессор читал одну из лучших своих сказок.
Сказку о любви.
Он читал, не замечая, как тихо в аудитории, как внимательно студенты ловят слово за словом. Он читал, наполовину уже рассказывая, потому что каждую свою сказку помнил наизусть – рукопись только помогала перебороть волнение: профессор, сотни раз выступавший перед аудиторией, волновался, словно на первом своём школьном экзамене.
«Нужно быть большим чудаком, чтобы пытаться разгадать любовь. Разложить её на составляющие, приклеить к каждому ярлычок, надписать и классифицировать. Жизнь, как это водится, одновременно всегда и проще, и сложнее всяких наук.
Узнай, как она любит держать тебя за руку, когда вы вместе идёте по улице.
Порадуйся её смеху, когда она смеётся твоим шуткам.
Почувствуй тепло её губ и запомни аромат духов.
Ощути на себе её взгляд, когда сам мельком взглянул на другую.
Посмотри, какого цвета её глаза, когда она просыпается утром.
И если после всего этого ты так и не понял, что любишь её – тогда ты самый большой из всех чудаков, каких я знаю, приятель».
Когда он закончил читать, в аудитории всё ещё стояла тишина, такая ощутимая, что, казалось, сам воздух стал гуще, и его можно проткнуть пальцем. А потом по нарастающей раздался шорох, шелест, гул, он всё усиливался, загрохотали и заскрипели скамьи и столы амфитеатра: студенты поднимались, и стоя аплодировали ему. Профессор смущённо теребил в руках свои очки, нервно протирая платком совершенно чистые стёкла, и нерешительно улыбался.
– Напечатайте!
– Да, опубликуйте!
– Это обязательно нужно в издательство!
– Попробуйте!
– Что вы теряете!
Пришёл Новый год, а из издательства не было ни письма, ни посыльного. Он отправился туда сам – и успел как раз к тому моменту, когда со здания рабочие снимали вывеску.
– Простите, а куда переехало издательство?
– Никуда. Старый хозяин помер, контора закрылась.
Он ещё немного постоял на морозном ветру, наблюдая, как из здания выносят столы и стулья, и ушёл.
* * *
– Это прекрасная квартирка, чудесный вид, у нас очень тихий район – и стоит всего ничего!
Молодой человек, только что приехавший в город, поставил свой саквояж у входной двери, примостил рядом дорожную сумку и зонт, который использовал вместо трости, и шагнул в комнату. Хозяйка маячила у него за плечом, нетерпеливо перебирая пальцами рук, сцепленных на пухлом животе.
– Ну, так что же? Уже с мебелью, почти даром!
Постоялец остановился у широкого письменного стола с чернильным прибором, стопкой чистой бумаги и лампой под зелёным стеклянным абажуром. Выдвинул ящик, второй – и вдруг заметил на самом его дне какую-то чуть книгу.
– А что стало с предыдущим жильцом?
– Исчез, месяцев шесть тому назад. Вернулся как-то вскоре после Нового года потерянный такой. Что-то у него не задалось, но не на работе, а вот где – не знаю. Утром ушёл, и больше я его не видала. Говорили, что умер – минувшая зима у нас была холодная, но кто знает… Мы всё ждали, что он объявится, однако надо на что-то жить, и потому решили снова сдать эту квартирку. К тому же здесь немного высоко, жильцам постарше её не сдашь – трудно взбираться наверх. Но вам-то с молодыми ногами это не помеха!
Молодой человек рассеянно кивнул.
– Так берёте?
– Да, беру, мне это подходит. Я сейчас спущусь, только огляжусь немного.
Хозяйка удовлетворённо кивнула. Потом внимательно, с прищуром, посмотрела на него – нет, не похож на вора, да и красть в пустой квартире было нечего – и вышла. Новый постоялец достал из стола книгу, и повертел её в руках, рассматривая кожаный переплёт. Переплёт был явно сделан не профессиональным печатником, но очень старательно и аккуратно.
Только в углу форзаца кто-то оставил отпечатки двух больших пальцев.
История шестая. «Дом «У двух сов»
Первые лучики рассветного солнца всегда заглядывают на тихую улочку – поздороваться с Домом. Озорные блики любят затевать чехарду в больших полукруглых окнах мансарды с частым мелким переплётом, а если ночь выдалась туманной, или накануне шёл дождь – скакать по кованым завитушкам балконных перил и ажурным опорам козырька над парадной дверью. Тёплый золотистый свет, разливающийся над сонным Городом, и предвещающий ему новый день, мягко касается потемневшего от времени красного кирпича стен, облупившейся краски на входной двери и оконных рамах, и двух маленьких каменных фигурок под самым карнизом крыши. В них ещё и сейчас, хотя уже не так хорошо, как когда-то, угадываются очертания воробьиного сычика и совы-сплюшки.
Архитектор, построивший дом, в своё время заказал эти скульптуры у лучшего мастера в Городе, обязательным условием поставив, чтобы маленьких совок вырезали из местного, с рыжеватыми прожилками, песчаника. Большим шутником был этот архитектор: дома, взбиравшиеся по крутому подъёму холма, плотно смыкались друг с другом стенами – а его Дом обосновался сам по себе, окружённый хоть и скромным, но садиком. Все соседские палисадники устремлялись в небо острыми металлическими пиками заборов – а его заборчик поверху изгибался, словно огромная арфа, и снизу по гладким, без пик, штырькам карабкался дикий виноград. На крышах домов вокруг торчали мелкие слуховые окошки – а его мансарда под высокой крышей была такой же светлой, как какая-нибудь бальная зала.
В ту пору по мощёным булыжником улицам ещё разъезжали запряжённые парами и четвёрками коней экипажи, над тротуарами таинственно мерцали газовые фонари, и джентльмены непременно вставали, когда леди входили или выходили из комнаты. Выбранное архитектором место находилось чуть в стороне от шумных и людных центральных улиц, в кварталах, где селились мастеровые, приказчики, младшие гарнизонные офицеры и мелкие лавочники. Здесь над черепичными крышами, узенькими проулками и засаженными сиренью палисадниками, поднималась белая колоколенка старой церкви, по утрам из соседней булочной разносился запах свежего хлеба, а сырыми осенними вечерами – запах крепкого табака, который курил квартальный в своей будочке на углу.
Краска и побелка едва-едва высохли, когда архитектор въехал в новое жильё со всеми своими слугами и домочадцами. Дом «У двух сов» ожил, наполнился голосами, шагами; ароматами супов и пирогов с румяной корочкой, доносившимися из кухни; запахами бумаги, чернил и чая с корицей из хозяйского кабинета, который одновременно служил и библиотекой; тонкими нотками французских духов, так любимых женой архитектора. В новогодние праздники к этому добавлялись смолистый, ни с чем не сравнимый дух рождественской ели – и мандаринов, которые ребятня вечно таскала из кладовой к себе наверх, в детские комнаты в мансарде.
Иногда мандариновые корочки, забытые на подоконнике, забирал расшалившийся домовой, и спустя много дней, порой даже в разгар весны, их находили то в шкафах позади книг, то в шляпных коробках на антресолях, а то на чердаке, возле маленького слухового оконца. Здесь, под самым коньком крыши, по заверению детей, по ночам любили сиживать домовой и полосатый вальяжный кот Боцман. Архитектор и его жена считали эти рассказы простыми фантазиями, зато кухарка Марфа Алексеевна, властвовавшая на кухне, относилась к ним с полной серьёзностью – ведь никто иной, как она сама перевезла в старом потрёпанном венике домового из их прежней усадьбы в новый Дом.
* * *
Год убегал за годом, мир менялся. Пароходы, казавшиеся диковинкой, когда архитектор был ещё молодым, научились пересекать океаны; телеграфные кабели связали друг с другом континенты, сделав самые отдалённые уголки планеты неожиданно близкими. Дом давно потерял лоск, которым так любят хвалиться друг перед другом только что построенные здания, зато взамен получил нечто большее. В тихом поскрипывании половиц слышались истории минувших лет, в кирпичную кладку стен навсегда впитались аппетитные запахи кухни, на запылившемся чердаке поселились голуби, которых время от времени лениво гонял четвёртый или пятый потомок полосатого Боцмана. Маленькие совы из песчаника потемнели от дождей и солнца, вьюг и туманов, но всё так же внимательно разглядывали из-под карниза прохожих.
Дом обрастал воспоминаниями, легендами, своими героями, победами и неудачами. Его стены помнили, как младший сын архитектора, вопреки родительской воле оставив учёбу в университете, подался в армию – и спустя много лет вернулся на тихую улочку полковником, героем двух войн с османами. Как одна из дочерей вышла замуж за скромного, болезненного вида юношу с приятными манерами, которому суждено было стать одним из величайших поэтов своей эпохи. Как внук архитектора, выбравший карьеру инженера, вписал своё имя в историю, участвуя в масштабном строительстве железных дорог, перепоясавших всю страну. Впрочем, Дом помнил и многое другое. Как тот же младший сын любил, когда мать читала ему на ночь книжки про злых пиратов, храбрых рыцарей и прекрасных восточных принцесс. Как дочка, не сдав экзамен в гимназии, долго плакала в кладовке – пока её не отыскал отец, только что вернувшийся из столицы, и привезший в подарок девочке канарейку. Как внук архитектора чуть не спалил мансарду, когда они с братьями стащили на кухне коробок спичек, и решили разжечь костёр в устроенном под кроватью «индейском вигваме» – и как одна из внучек подарила бабушке по-детски неумело, но старательно расшитую подушечку для иголок.
Дом провожал своих жильцов и встречал новых, переходил от одних наследников к другим, так что со временем самые дальние родственники разросшейся фамилии даже стали забывать о существовании двух маленьких совок из песчаника, сидящих под карнизом, о кованых балконных перилах и о больших полукруглых окнах мансарды с частым мелким переплётом. Но однажды настал год, когда замер Дом – и замер Город, тревожно выжидая, прислушиваясь к чему-то неясному, грозному, опасному. В тот год по центральным улицам плотными потоками постоянно спешили куда-то люди, произносились речи, колыхались над толпой флаги, звучали призывы. Потом взамен голосов заговорили винтовки и пулемёты, по булыжникам городских улиц зацокали копыта кавалерийских отрядов. Закрылась маленькая булочная на углу, опустела будка квартального – и в довершение уехали из Дома его последние жильцы, в страхе и неизвестности, надеясь в чужом краю обрести новую жизнь, потому что прежняя закончилась навсегда.
В опустевших комнатах мыши напрасно копошились в клочках бумаги в поисках чего-нибудь съедобного, и даже пауки почти все ушли из Дома, оставив свои серые от пыли сети сиротливо обвисать по углам. Зима, завершившая то неясное, грозное, опасное, к чему тревожно прислушивался, и чего, замерев, ждал Город, выдалась лютой. Некому было поддерживать огонь в брошенной котельной, полопались трубы парового отопления, и Дом заледенел изнутри. Мёртвой пеленой покрыл иней его окна, промёрзли скрипучие половицы, на чердаке завывали сквозняки, пробиравшиеся через маленькое оконце под коньком, где когда-то так любил сиживать хозяйственный домовой.
Весной, когда в запущенных, задавленных сорняками палисадниках вновь расцвела одичавшая сирень, на улице стали появляться люди. Мелькали кожанки, звёзды, зачитывались какие-то распоряжения, циркуляры, указания, направления. Выстроившиеся вдоль булыжной мостовой здания, которым посчастливилось пережить зиму и устоять, удивлённо переглядывались. Во многих не осталось старых жильцов – или съехали, или сгинули – и вот взамен них пришли новые, сразу не понравившиеся ни маленьким совкам под карнизом крыши, ни самому Дому.
Слишком уж походили они на дикую варварскую орду, захлестнувшую Город: говорили на своём, совершенно непонятном жаргоне, никогда не снимали в прихожей уличной обуви. Заваливались прямо на кровати и диваны в грязных калошах и сапогах, курили, оставляя подпалины от дешёвых вонючих папирос на когда-то красивых узорчатых обоях. То и дело на улице из-за небрежного обращения с керосинками случались пожары, иной раз вспыхивала пьяная драка, бывало, что и с поножовщиной. Кварталы, где когда-то селились мастеровые, приказчики, младшие гарнизонные офицеры и мелкие лавочники, превратились в трущобы, вобравшие в себя потоки отребья всех мастей. Людское море словно захлестнуло старые тихие улочки, всюду ютились по нескольку семей, в самом доме «У двух сов», теперь получившем просто порядковый номер, жили сразу шестьдесят человек, тесно распиханных по свободным углам – а пришельцы всё прибывали и прибывали.
Так продолжалось лет десять, пока странная эта волна не пошла на спад. Улица к тому времени изменилась: пропали маленькие огороженные палисадники, взамен них устроили общую аллею из молоденьких каштанов. Дома кое-как подлатали и отремонтировали, да и жильцы успели несколько раз смениться. Дикая гомонящая орда исчезла, будто туманный морок с болот, а на её место в коммуналки въехали рабочие и служащие. В бывшем кабинете архитектора теперь жил слесарь с механического завода, с миниатюрной, тихой и хозяйственной женой, да двумя сыновьями, только-только поступившими в начальную школу. Гостиную, хозяйскую спальню и примыкавший к ней будуар занял какой-то важный то ли завмаг, то ли завсклад. В одной из комнат мансарды обитала молодая семья, в другой – старушка-библиотекарь с дочкой, студенткой медицинского института. Комнаты прислуги отошли сапожнику с многочисленным семейством, державшему мастерскую тут же, в подвальном этаже дома, и дворнику, который среди прочего следил, чтобы отопление исправно работало даже в самый лютый мороз.
* * *
Дом постепенно свыкся с новыми людьми, и уже не пакостил им исподтишка хлопаньем дверей и окон, скрипом половиц и ночными шорохами. Конечно, теперь никто не подавал в библиотеку чай с корицей, и не забывал на подоконнике мандариновые корочки, но в комнатах снова стало тепло и уютно, снова зазвучали спокойные голоса, зазвенел детский смех. На смену газовым фонарям и керосинкам пришли электрические лампы под широкими зелёными абажурами. На чердаке новые жильцы устроили голубятню, и лишь изредка Дом, дремлющий на солнышке и грезивший о прошлом, с интересом присматривался к своим обитателям – когда кто-нибудь из них словом или поступком повторял вдруг прежних хозяев.
Жизнь снова пошла своим чередом, хотя взамен квартального по улицам теперь ходили милиционеры, на месте прежней булочной помещался магазин под вывеской «Продукты», а в церкви, где с колокольни давно сняли колокола, располагался склад швейной фабрики. Дом опять провожал прежних жильцов, встречал новых, запоминал маленькие радости и печали, достижения и неудачи. Наблюдал, как сыновья слесаря, всё свободное время проводившие в маленькой голубятне на чердаке, мастерили модели самолётов, и мечтали о небе – и как в старших классах, бросив школу, они стали курсантами сперва аэроклуба, а потом и лётного училища. Как серьёзная, всегда сосредоточенная на учёбе, дочь библиотекаря получила красный диплом, и уехала далеко на восток, на самый край большой страны, чтобы спустя годы вернуться начальником военно-санитарного поезда в родной Город, вновь ставший линией фронта. Как подбирал первые незатейливые мелодии на вырезанной дедом дудочке один из младших сыновей сапожника – ему, потерявшемуся в эвакуацию, и лишь через много лет после войны вновь отыскавшему родных, суждено было стать знаменитым композитором.
* * *
Дом не любил вспоминать военные годы: всякий раз жалобно поскрипывал половицами, заходился мелкой дрожью, так что тихонько начинали дребезжать оконные стёкла, будто по улице проехал тяжёлый грузовик. Город, ставший на два долгих года полем боя, горел, не переставая, даже тогда, когда здесь, казалось, нечему было гореть. От взрывов бомб и снарядов снова и снова вставала на дыбы перепаханная земля, рушились последние обломки стен, исчезали в месиве раскрошенного кирпича, балок, черепицы и железа старые улицы и переулки. Две бомбы упали совсем рядом: одна весной смела соседний домишко, оставив вместо него только глубокую опалённую воронку. Вторая летом разворотила проезжую часть прямо перед парадной дверью, вышибив оконные рамы, сорвав с балкона кованые решётки, выкорчевав каштаны, и срезав осколками хвост у одной из каменных совок. Дом, конечно, не знал, что вражеский самолет, сбросивший ту бомбу, на окраине города был сбит нашим истребителем, за штурвалом которого сидел один из сыновей слесаря, когда-то жившего с семьёй в бывшем хозяйском кабинете.
Город долго сохранял оставленные войной раны, и даже десятилетия спустя шрамы эти можно было отыскать в лабиринтах старых улочек. Сразу после того, как покатилась на запад линия фронта, здесь начали на скорую руку восстанавливать разрушенные дома, снова ютясь по нескольку семей в одном углу – лишь бы пережить холодную и голодную зиму. Потом война закончилась, и люди, вернувшиеся в Город, снова вдохнули жизнь в то, что легло мёртвыми грудами кирпича, балок, черепицы и железа. Год за годом кварталы, где когда-то селились мастеровые, приказчики, младшие гарнизонные офицеры и мелкие лавочники, поднимались из руин. Дом «У двух сов» уцелел лучше многих – здесь остались стоять три из четырёх внешних стен (тыльная частично обвалилась после особенно сильного пожара), сохранилась парадная лестница и даже остатки крыши. Взамен сгоревших перекрытий устроили новые, заменили выбитые взрывами окна и двери, на трёх этажах и в мансарде старой коммуналки обустроили семь отдельных квартир – и только побитые пулями и осколками совки под карнизом остались нетронутыми.
Из прежних, довоенных жильцов в Дом не вернулся никто, на их место пришли другие. Вновь на длинную нитку прожитых лет время стало нанизывать жемчужины отдельных дней – светлых, тёмных, веселых, грустных, обычных. Постаревший, но всё такой же крепкий и основательный, Дом наблюдал, как растёт и меняется Город, да иногда ворчал на чересчур много о себе воображающие новостройки, обосновавшиеся по-соседству. Больше всего он любил детей – им Дом рассказывал истории из прошлого, убаюкивал и дарил хорошие сны, делился своими маленькими сокровищами, которые оставили когда-то прежние жильцы: то отыщется на чердаке оловянный солдатик в мундире царской армии, то в саду откопают ржавую коробку из-под чая, с заботливо припрятанными в ней цветными стеклянными шариками.
* * *
Дом дремал на апрельском солнышке, когда из остановившейся у подъезда машины стали выгружать и носить в квартиру в мансарде вещи. Совки внимательно смотрели из-под карниза на плечистых грузчиков, которыми руководил молодой мужчина, сам то и дело подхватывавший из кузова какую-нибудь коробку с вещами. Грузовик целый день уезжал и возвращался, пока не перевёз всё имущество нового жильца – а под вечер удивлённый Дом почуял, как в мансарде запахло чаем с корицей.
Человек, приготовивший чай, устроился на широком подоконнике полукруглого окна с частым мелким переплётом, распахнутого в тёплый весенний вечер, и глядел на старые кварталы, убегавшие вниз, к невидимой за зданиями Реке. Дом, до сих пор не жаловавший взрослых, теперь настороженно прислушивался: запах будил в нём воспоминания. Мужчина же, допив чай и оставив окно открытым, отправился спать.
Новый жилец уходил рано и возвращался поздно, но каждое утро и каждый вечер по мансарде плыл знакомый запах чая с корицей, точно такого же, какой когда-то подавали в кабинет архитектору. Иногда мужчина устраивался на подоконнике, с чашкой или трубкой, неспешно пил чай или долго курил, любуясь открывающимся пейзажем. Иной раз он целый вечер просиживал в кресле с какой-нибудь книгой или, включив компьютер, часами что-то набирал на клавиатуре. Дому было любопытно, он вслушивался в тихий перестук клавиш, всматривался в строчки на экране – и однажды начал сам нашёптывать человеку свои истории.
Дни пролетали за днями, весну сменила осень, её – новая весна, и снова осень. Записанных историй становилось всё больше, а сам Дом становился всё задумчивее. Запах чая с корицей разбередил печаль о прошлом, но оно возвращалось только туманными обрывочными картинками, от которых оставалось мучительное ощущение недосказанности. Днём, когда хозяина не было, в квартире тихо поскрипывали половицы, что-то шуршало внутри стен и на чердаке – старый Дом силился понять, что именно не даёт ему покоя, и однажды всё-таки понял: человек был одинок.
Это была их третья весна, и вскоре прежняя задумчивость Дома словно передалась человеку. Мужчина теперь всё реже устраивался в кресле или на подоконнике, вместо этого беспокойно расхаживая из угла в угол. Истории оставались недописанными, чай – недопитым, книги – заброшенными. Апрель перевалил за середину, когда жилец из мансарды стал всё позже возвращаться домой, пропадая где-то в опускавшихся на Город сумерках, а, возвращаясь, снова расхаживал из угла в угол, разжигал трубку, бросал её недокуренной, и укладывался спать, чтобы беспокойно ворочаться в постели до глубокой ночи. В самом начале мая мужчина и вовсе уехал куда-то на целую неделю, так что Дом даже встревожился, не переборщил ли он, и не надумал ли хозяин перебраться в новое место. Но нет: когда на улице покрылись белыми свечками цветов немногие уцелевшие, могучие – без малого вековые – каштаны, мужчина вернулся, и вместе с ним в квартиру в мансарде вошла женщина.
Человек беседовал с гостьей, готовил для неё чай, усадив в своё любимое кресло, а Дом настороженно выжидал. Одобрительно отметил, что женщина аккуратно разулась на коврике у входной двери; что внимательно разглядывала корешки выстроившихся на полках книг и развешанные по стенам гравюры; а главное – как долго она стояла у окна, всматриваясь в укутанные сумерками старые городские кварталы. Насмешливо скрипнул половицей, когда мужчина отправился провожать гостью. И хотя не признался бы в этом даже себе, но, едва захлопнулась за ними парадная дверь, с нетерпением стал ждать, принюхиваясь к тонким ноткам французских духов, оставшихся в мансарде, вернётся ли женщина снова.
Гостья вернулась. Она приходила всё чаще и чаще, а осенью, когда на тротуар с шуршанием слетали жёлто-коричневые пятипалые листочки, и падали колючие шарики созревших каштанов, однажды пришла – и осталась. Довольный Дом наблюдал, как холостяцкая квартира в мансарде неуловимо меняется, становится уютнее под чуткой женской рукой. Мужчина снова принялся за недописанные истории, будто найдя потерянное в конце зимы вдохновение, и ещё до того, как октябрь серой пеленой моросящего дождя завесил пейзаж за окном, хозяин мансарды отослал свою рукопись в издательство.