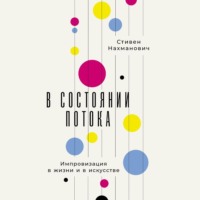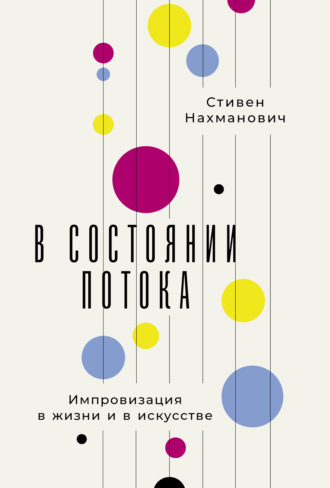
Полная версия
В состоянии потока: Импровизация в жизни и в искусстве
К сожалению, в те времена не существовало магнитофонов. И если мастера хотели запечатлеть свою музыку, им приходилось так же ловко управляться с пером, как и с инструментами. Пожалуй, Моцарт был величайшим импровизатором пера и бумаги. Он часто записывал партитуры и партии сразу набело, сочиняя музыку так скоро, как двигалось перо, и редко вымарывал хотя бы строчку. Бетховен, напротив, отлично знал, какие звуки ему нужны, удерживал их в голове долгие годы, но мог сохранить их на бумаге, лишь необыкновенно усердно и неутомимо набрасывая, редактируя, вычеркивая, переписывая и шлифуя. В его нотных тетрадях была полная неразбериха, благодаря им можно шаг за шагом проследить развитие его музыкальной мысли.
В XIX в. возникновение и расцвет залов, специально предназначенных для концертов, постепенно положили конец концертной импровизации. В индустриальную эпоху акцент сместился на специализацию и профессионализм, поэтому многие музыкантов ограничились тем, что играли нота в ноту партитуры, созданные горсткой композиторов, которые каким-то образом имели доступ к таинственному и божественному творческому процессу. Сочинительство и исполнение все более отдалялись друг от друга, что наносило ущерб им обоим. Народная и классическая формы также отдалялись друг от друга, что опять же наносило ущерб им обеим. Новое и старое утратили преемственность. На том этапе посетители концертов уверовали: единственный хороший композитор – это мертвый композитор.
Импровизация вновь заявила о себе в XX столетии, особенно в области джаза. Ближе к концу века индийская музыка и другие импровизационные традиции вернули музыкантов к радостям спонтанного творчества. Кроме подобных видов экспромтов на тему или в рамках заданного стиля, сейчас отдается должное свободной импровизации и изобретению новых и индивидуальных стилей художественного творчества. В наши дни многие люди искусства объединяются в импровизационные камерные ансамбли.
Всплеск свободной игры как образа действия произошел в других видах искусства, в частности в театре и танце, в которых импровизация все чаще используется не просто как метод для разработки нового материала в студии, но и для создания абсолютно спонтанных законченных представлений для публики. В изобразительном искусстве существует традиция автоматизма: такие художники, как Василий Кандинский, Ив Танги, Жоан Миро и Гордон Онслоу-Форд подходили к холсту, не определив тему заранее, и позволяли цветам и формам изливаться самим по себе, вследствие спонтанных и интуитивных побуждений бессознательного{9}. Работая над выдающейся серией картин «Импровизации»[10], которая во многом заложила фундамент для искусства ХХ в., Кандинский наблюдал, как его кисть придает очертания духовным состояниям и преображает их по мере возникновения.
Все эти формы объединяет условие, являющееся самой сущностью тайны творчества. Ядро импровизации – свободная игра сознания, которое рисует, записывает, изображает и играет сырой материал, приходящий из бессознательного. Такая игра сопряжена с некоторой долей риска.
Значительное число музыкантов необычайно искусно воспроизводят напечатанные на бумаге черные точки, но пребывают в недоумении, как эти точки там в принципе оказываются, и опасаются играть без них. Теория музыки здесь не поможет: она учит правилам грамматики, а не тому, что говорить. Когда меня спрашивают, как импровизировать, лишь немногое из того, что я могу сказать в ответ, касается музыки. Самое главное заключается в спонтанном выражении, и речь идет скорее о духовной и психологической составляющей, чем о технике того или иного вида искусства.
Тонкости любого из них – как играть на скрипке, как импровизировать рагу[11], как писать прозу на английском, как снимать кино, как преподавать – безусловно, различаются; каждый инструмент или средство сопровождается собственным языком и совокупностью познаний. Но своего рода метаобучение, метадеятельность переносятся на разные стили и виды искусства, и на страницах своей книги я хочу затронуть именно эту тему. Хотя некоторые принципы применимы только к определенной области, другие охватывают все сферы творчества. Любое действие можно выполнять как искусство, как ремесло или как каторжный труд.
Как же научиться импровизации? Или любому виду искусства в принципе? Или вообще чему бы то ни было? Здесь есть противоречие, оксюморон. Это обыкновенное двойное послание. Подойдите к человеку и скажите: «Будь спонтанен!» Или представьте, что это предложили вам. Мы подчиняемся учителям музыки, танца или литературного мастерства, которые могут критиковать или подсказывать. Но внутренне они на самом деле просят нас «быть спонтанными», «быть творческими». Что, несомненно, легче сказать, чем сделать.
Как же научиться импровизации? Ответить можно лишь вопросом на вопрос: что нас останавливает? Спонтанное творчество проистекает из глубин нашего существа и представляет собой наше «я» в чистом и первозданном виде. То, что мы должны выразить, уже с нами, есть мы, поэтому во время творческого труда нужно не прилагать усилия для получения материала, а устранять препятствия на пути его естественного течения.
Следовательно, не имеет смысла вести речь о творческом процессе, не упомянув его противоположность: те скользкие, липкие преграды, то нестерпимое чувство, что ты застрял в тупике и что тебе нечего сказать. Остается надеяться, что настоящая книга произведет эффект разорвавшейся бомбы, устраняющей преграды для творчества. Но работать с преградами нужно тонко. Здорово было бы иметь набор простых готовых рецептов: «Семь шагов к уничтожению преград». К сожалению, с творческими процессами так не получится. Единственный выход из этого сложного положения – пройти через него. В конечном счете помогают нам лишь техники, которые мы изобрели самостоятельно.
Нельзя также вести речь о творческом процессе в целом, поскольку у разных людей он происходит по-разному. Существует множество граней нашей личности, которые мы можем показать миру. Поэтому каждому из нас важно найти собственный путь к пониманию и раскрытию этих глубоких тайн.
Мы вправе творить, самореализовываться и осуществлять свои возможности. Не каждому приходится стоять перед аудиторией, не имея четкой программы и надеясь на появление музы. Но многие оказываются в подобных ситуациях. Возможно, вы хотите овладеть игрой на музыкальном инструменте, выразить себя в живописи, извлечь роман из глубин своей души. Возможно, вы учитесь и хотите мобилизовать свой творческий потенциал, чтобы написать нестандартную выпускную работу; возможно, вы хотите совершить прорыв в своем деле и разработать новый, неведомый доселе план и воплотить его. Возможно, вы врач, теряющийся в догадках, как лечить пациента, или политический активист, ищущий более действенный способ объяснить людям происходящие события. Как создать новый способ управления разросшимся городом или разработать законодательный акт для решения сложно запутанных региональных, государственных или мировых проблем? Как изобрести новый способ общения с любимым человеком?
Литературу, посвященную творчеству, переполняют рассказы о переживании прорыва. Подобные моменты случаются, когда вы избавляетесь от некой помехи или страха и – бац! – влетает муза. Вы ощущаете ясность, силу, свободу, словно из глубин вашей души появляется нечто непредсказуемое. Литература о дзене, на которую я в значительной степени опираюсь из-за ее глубокого проникновения в подобные переживания, изобилует историями о кенсё и сатори, мгновениях озарения и мгновениях полного внутреннего перерождения. В вашей жизни наступают моменты, когда вы просто вышибаете дверь. Но окончательного прорыва не существует; творчески развиваясь, мы обнаруживаем ряд промежуточных прорывов с открытым финалом. У этого странствия нет конечной точки, потому что это странствие по миру души.
По моему опыту, музыка научила меня прислушиваться, и не просто к звуку, а к тому, кто я есть. Я обнаружил применимость множества мистических или эзотерических традиций к практике художественного творчества. «Мистицизм» ссылается не на туманные системы верований или волшебные заклинания; он обращен к непосредственному и личному духовному переживанию, отличному от институционализированной религии, в лоне которой предполагается, что человек верит опыту из вторых рук, доставшемуся из священных книг, от учителей либо из авторитетных источников. Именно мистики привносят в религию творчество. Мистический или провидческий подход расширяет и конкретизирует также искусство, науку и повседневную жизнь. Верю ли я тому, что говорит мне «великий человек», или попробую разобраться сам и найти то, что действительно верно с моей точки зрения?
Предмет нашего разговора по сути своей таинственен. Его невозможно полностью выразить словами, поскольку он затрагивает глубинные предречевые уровни сознания. Никакая линейная структура не способна точно передать эту тему, она не ложится на бумагу в силу своей природы. Наблюдение за творческим процессом подобно взгляду внутрь кристалла: на какую из граней ни устремлялся бы взор, мы видим отражения всех остальных. По ходу книги мы будем вглядываться в несколько граней, а затем обратимся к ним с других ракурсов, так изображение станет глубже и полней. Эти взаимоотражающие мотивы, предварительные условия творчества – игривость, любовь, сосредоточенность, практика, навык, использование силы ограничений и силы ошибок, риск, капитуляция, терпение, смелость и доверие.
Творчество – гармония разнонаправленных напряжений, как это заложено в идее лилы, или божественной игры, о которой мы говорили в начале книги. Поскольку мы движемся сквозь поток собственных творческих процессов, мы цепляемся за оба полюса. Если игра ускользает, наша работа становится тяжеловесной и скованной. Если ускользает сакральное, работа теряет связь с основанием, на котором коренится наша жизнь.
Знание творческого процесса не может заменить саму креативность, но оно может помочь нам не отказаться от творчества, когда задачи пугают и кажется, что свободная игра воображения заблокирована. Если мы понимаем, что неизбежные неудачи и разочарования – это фазы естественного цикла творческих процессов, если знаем, что препятствия, возникающие у нас на пути, могут украсить работу, то мы можем упорствовать и воплотить наши желания в жизнь. Быть настойчивым сложно, но существуют пути преодоления, есть ориентиры. И эта борьба, которая гарантированно займет всю жизнь, того стоит. Это борьба, которая приносит невероятное удовольствие и радость. Каждая попытка, которую мы предпринимаем, несовершенна; но каждая из этих несовершенных попыток – это повод для восторга, не похожего ни на что другое в мире.
Творческий процесс – духовный путь. Это приключение касается нас, глубин нашей души, композитора в каждом из нас, оригинальности не в смысле соответствия чему-то абсолютно новому, но нашему «я» в полном и первозданном виде.
Истоки
Вдохновение и течение времени
Кто удержит радость силою,
Жизнь погубит легкокрылую.
На лету целуй ее –
Утро вечности твое!
УИЛЬЯМ БЛЕЙК{10}Размышляя об импровизации, мы склонны в первую очередь думать о музыке, театре или танце; но помимо сопровождающих их удовольствий эти виды искусства – путь к переживаниям, которые составляют повседневную жизнь целиком. Мы все импровизаторы. Самая распространенная форма импровизации – обычная речь. Разговаривая и слушая, мы опираемся на ряд кирпичиков (словарный запас) и правил их сочетания (грамматика). Это следствие нашей образованности. Но предложения, которые мы с их помощью составляем, возможно, не звучали раньше и никогда не прозвучат вновь. Любой разговор подобен джазу. Мгновенная творческая деятельность для нас так же обыденна, как дыхание.
Создаем ли мы высокое искусство или блюдо на ужин, мы импровизируем, когда движемся по течению времени и по волнам своего постоянно меняющегося сознания, а не следуя заранее определенному сценарию или готовому рецепту. Видам искусства, в которых сочиняют или используют сценарий, свойственны два типа времени: момент вдохновения, когда на мастера снисходит непосредственное постижение красоты или истины; затем часто упорная борьба, позволяющая цепляться за него настолько долго, чтобы зафиксировать его на бумаге, холсте, пленке или в камне. Романист может пережить мгновенное озарение (буквально вспышку), во время которого зарождается новая книга, раскрываются ее значение и цель; но на ее написание могут потребоваться годы. Все это время он должен не только сохранять мысль свежей и ясной, но также есть, жить, зарабатывать деньги, страдать, наслаждаться, дружить – заниматься всем тем, что обычно делают люди. Кроме того, сочиненной музыке или театральной пьесе свойственен еще третий тип времени: кроме момента (или моментов) вдохновения и времени на написание партитуры, существует время фактической постановки. Музыка часто исполняется только после смерти композитора.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Амбушюр – способ складывания губ, языка и положение лицевых мышц музыканта при игре на духовых инструментах. – Здесь и далее постраничные примечания переводчика, если не указано иное.
2
Термины дзен-буддизма: кенсё – пробуждение, ви́дение истинной природы, сатори – переживание опыта постижения истинной природы (кенсё воспринимается как преддверие сатори).
3
Речь идет о сякухати, продольной бамбуковой флейте, завезенной в Японию из Китая в VIII в. В современном мире обладает широким спектром репертуара: медитативные практики, народная и классическая музыка, джаз.
4
Стефан Граппелли (1908–1997) – французский скрипач и пианист, один из величайших джазовых скрипачей; он основал совместно с гитаристом Джанго Рейнхардтом ансамбль, состоявший исключительно из струнных инструментов.
5
В качестве образца эстетической мысли Микеланджело Буонаротти процитируем его стихотворение:
Когда, о донна, истинный ваятельФигуру сотворяет –От глыбы отсекаетВсе лишнее резцом,Чтоб вырвать мысль из каменных объятий.(Пер. с итал. А. Махова)6
Паттерн – структура, шаблон или образец, позволяющие выявлять закономерности в природе, обществе и любых явлениях. Это ключевое понятие в философии Г. Бейтсона (1904–1980), британо-американского ученого, работавшего в области антропологии, кибернетики, эпистемологии, учителя автора книги.
7
Арнольд Франц Вальтер Шёнберг (1874–1951) – австрийский и американский композитор, музыкальный теоретик, педагог, представитель музыкального экспрессионизма, глава нововенской школы.
8
Виола да браччо (итал. «ручная виола») – средневековый музыкальный инструмент, предшественник современной скрипки.
9
Каденция – импровизируемое исполнителем или созданное самим композитором виртуозное заключение сольной вокальной или инструментальной музыкальной пьесы.
10
Кандинский делил свои произведения на «импрессии», «импровизации» и «композиции». «Импровизации» создавались в 1909–1917 гг.
11
Рáга – древнейший вид импровизационной индийской музыки, предполагающий передачу с помощью различных способов окраски звука многообразных эмоциональных состояний.
Комментарии
1
Рильке Р. М. Сонеты к Орфею. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2020.
2
Тревор Леггетт приводит эту притчу в книге «Дзен и его пути» (Zen and the Ways), 1978.
3
Стефан Граппелли в книге: Баллье У. Американские музыканты, II часть: Семьдесят два джазовых портрета (American Musicians II: Seventy-Two Portraits in Jazz). Уитни Баллье был джазовым критиком журнала The New Yorker Magazine с 1957 по 2001 г. и опубликовал тринадцать книг на эту тему.
4
Блейк У. Бракосочетание Рая и Ада (пер. с англ. В. Чухно). – М.: Эксмо, 2006.
5
Шёнберг А. Брамс прогрессивный / Шёнберг А. Стиль и мысли. Статьи и материалы. – М.: Издательский дом «Композитор», 2006.
6
Эммануэль Винтерниц. Леонардо да Винчи – музыкант (Emmanuel Winternitz, Leonardo da Vinci as a Musician. Yale University Press, 1985).
7
Барон де Тремон в книге: Бетховен: Впечатления современников (Beethoven: Impressions By His Contemporaries, O. G. Sonneck, ed. 1926).
8
Карл Черни, там же.
9
Гордон Онслоу-Форд. Мгновенная живопись (Gordon Onslow-Ford, Painting in the Instant, 1964, New York: Harry Abrams, London: Thames and Hudson).
10
Блейк У. Летучая радость (из «Манускрипта Россетти»; пер. с англ. С. Маршака).