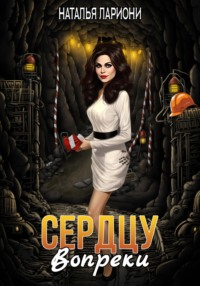Полная версия
Зеркало чужой души

Наталья Лариони
Зеркало чужой души
Глава 1
Бесконечная темнота превратилась в постоянство. Первые дни в этой небольшой камере казались адом, а потом пришло осознание, что это надолго, навсегда. Страх: всепоглощающий, постыдный, устрашающий, он парализовал, лишал воли, стирал все грани человеческого, разумного. Разум. Она моргнула, ее глаза уже давно свыклись с темнотой, сказать, что она научилась различать мелкие детали практически без освещения, это было слишком мало, ничтожная кроха. Она отлично видела в темноте и все еще сохранила возможность мыслить, думать, даже желать.
Женщина могла бы выдавить улыбку, но разучилась за эти годы улыбаться, даже усмешка казалась ей одной из разновидностей радости, которой она не знала вот уже 20 лет. Обхватив колени руками, она спиной прижалась к сырой стене, не чувствуя, как неровности выпивались в ее истерзанное тело. Подушечки пальцев непроизвольно скрутили маленький шарик из бумаги. Глаза смотрели в четко очерченные круги на стене напротив. Простое уверенное движение, шарик коснулся центра, на долю секунды прижался, словно желал остаться в закрашенном круге, но закрепиться, зацепиться, чтобы удержаться, было нечем, отскочив, устремился на пол.
Так и она пала 20 лет назад или может быть раньше, за долго до того события, скатилась в бездонную пропасть, когда взяла в руки тот дротик, а потом спустя годы надавила на газ. Пальцы сжались в кулак. Безмолвный крик застыл в горле, хотелось остановить время и повернуть его вспять, чтобы все исправить, изменить то, что натворила. Ее голова склонилась на колени, она лбом прижалась к грубой ткани штанов.
Вздох, выдох. Серость, сырость, затхлость. Почувствовать бы дуновение ветерка, посмотреть бы на звездное небо, встретить рассвет, проводить закат. Такое естественное проявление природы доступное для каждого на земле, стало для нее неисполнимым желанием. Она просила, первые несколько лет умоляла устроить ей прогулку, просила разрешения взглянуть на солнце, твердила о своем праве просто подышать на улице, пройтись… а в ответ пустота. Ее словно похоронили в этой камере с кроватью у стены, раковиной, унитазом, покосившейся тумбочкой.
Порой, нажимая на слив, она представляла, что точно также смыла свою жизнь, не оставив никакого следа… оставила… она оставила сына. 20 лет назад она видела его последний раз трехлетним мальчиком, которого сама лично сделала сиротой и это при еще живой матери.
Она писала ему письма. Несмотря на все, находила толику радости в этих письмах, верила, что он читал, знал о ней, пусть и не приходил, а может быть приходил, а ему не давали с ней увидеться. Она ничего не знала, даже не могла представить, каким он вырос, каким стал. Совсем ничего не знала. Обвинял ли он ее или хотя бы немного ее любил? Не знать, она уже и к этому привыкла – ничего не знать. Взгляд блуждал по стене, уже наизусть выучила все выемки, выступы. Она никого не видела из родных, только брат приходил всего лишь раз, чтобы подписать доверенность на управление. Доверенность.
Ее взгляд метнулся к очерченной таблице. Настенный календарь, нарисованный своими собственными руками: 13 строчек, 32 столбца. Первый год дался ей очень тяжело. Она терялась в датах, время для нее превратилось во что-то незримое, неузнаваемое. Слезы, отчаяние, страх терзали ее сознание, а потом наступило полное опустошение, день сменялся один за другим, пока она не захотела узнать – когда день рождение у ее сына. Именно с того периода на стене у нее появился календарь, нарисованный мелком.
15 апреля. Прошел очередной день рождения ее сына, а через неделю истекал срок ее доверенности. Ее брови слегка приподнялись, пальцы разжались, ноги коснулись холодного пола. Она увидит своего сына – пронзила мысль ее сознание. Оливия Торрес встала. Худощавая, невысокая в мешковатой одежде не по размеру она казалась серым птенчиком, закрытым в серой клетке, волосы, зачесанные и стянутые в пучок на затылке, колыхнулись от ее движений.
«Это будет моим условием», – ее губы сжались в тонкую линию, подбородок приподнялся. Она увидит своего сына. Обязательно увидит. Два небольших шага. Указательный палец коснулся даты – 30 апреля. Достала мелок и очертила круг. Она повернулась к небольшой тумбочке. Три шага, и Оливия присела на кровать. Лист бумаги царапнул кожу пальца, но она даже не поморщилась от пореза. Поднесла палец к губам, вкус железа слегка отрезвил ее, темное пятнышко отпечаталось на листе.
Оливия застыла, занеся карандаш. Она ждала, молчаливо, выдержанно. Она могла бы писать, слегка прищуриваясь, как она делала это ранее, но сегодня ей хотелось написать сыну письмо при свете. Может быть, улыбнулась бы, если бы не разучилась. Лязг метала, шум шагов, и зажегся свет. Все по расписанию, ее жизнь вот уже 20 лет была подчинена жесткому режиму: подъем, завтрак, обед, ужин, отбой…стабильно раз в неделю, по средам… она качнулась головой, отбрасывая неприятные мысли, сейчас она думала только о сыне.
Оливия писала торопливо, словно кто-то подстегивал ее, вынуждая спешить. Понимала, что никто не стоял позади нее, только завтрак, скоро принесут завтрак, она хотела отдать письмо, чтобы оно успело дойти, чтобы ровно через семь дней предстать перед сыном. Посмотрела бы ему в глаза, попросила бы прощение, если потребовалось бы, она даже встала бы перед ним на колени. Оливия поставила точку и свернула лист. Всего несколько строк и материнская мольба – приди ко мне.
Ждать, снова ждать. Ее слегка потрясывало. Нетерпеливо стояла около двери, отходила и снова возвращалась. Когда в дверь ударили, Оливия, хоть и ожидала стука, все равно вздрогнула и повернулась. Она смотрела, как приподнялась затворка и на полочку поставили поднос.
– Завтрак, – голос, лишенный каких-либо эмоций, вызвал в ней нервную дрожь, а сердце застучало сильнее, словно она делала что-то постыдное, ее руки тряслись.
– Письмо, – прошептали ее губы едва слышно.
– Завтрак, – в дверь нетерпеливо ударили.
– Письмо, – уже громче и отчетливее произнесла Оливия. – Письмо, отправьте пожалуйста.
Она сжала поднос, но не делала попытки забрать, другой рукой протянула сложенный в три раза лист бумаги.
– Отправьте письмо, – в ее голосе прозвучали металлические нотки.
В этот раз она потребовала, хотя просила редко, понимая тщетность своих просьб, но сегодня стояла на своем – что-то, что могло бы дать ей силы… но на что? Она уже порой сама не понимала, кто она, что она, зачем. Зачем она еще жила? Сын. У нее было право увидеть его, и она свято в это поверила, хотя бы во что-то, хотя бы раз обнять его, почувствовать его тепло. Глаза заволокло поволокой. Слезы. Она ведь так давно не плакала. Значит еще не разучилась, поняла она, когда на щеках почувствовала влагу. По ту сторону двери молчали. Письмо слегка подрагивало в руках, и красная отметина, бледная, но заметная, словно печать, притягивала ее взгляд. Ее кровинушка, ее плоть, ее продолжение на этой земле, ее единственный родной человек.
– Не положено, завтра, – неохотно ответили из-за двери.
– Мне нужно сегодня! – ее голос с легкой хрипотцой от долгого молчания, немного оглушал ее саму.
Тишина и темнота – вот два ее верных спутника долгие годы, а сегодня она просила, требовала, умоляла. Она жаждала увидеть сына, хотя бы один раз, чтобы поговорить, объяснить… а если он не станет слушать? Она спорила с самой собой. Тогда она купит его визит, пронеслась мысль…хоть у нее и не было денег, но там за этими стенами, были.
– Кто ты такая, чтобы требовать? Забирай, – его голос оборвался, – те, – услышала она издевку, сеньора! – поднос слегка дрогнул, тарелка с какой-то едой скатилась к ее руке.
Сеньора. Ее покоробило от этого слова. Он ее всегда так называл. К горлу подступил ком, живот свело от судороги. Ее затошнило только от одного воспоминания о нем.
– Я объявлю голодовку, если не заберешь письмо! – Оливия наклонилась, чтобы разглядеть того, кто стоял за дверью, и ее взгляд уперся в дешевый черный потрескавшийся ремень.
– Твое право! – усмехнулся надзиратель. – Только ему это не понравится, хочешь, чтобы я передал, что ты сопротивляешься?
Оливию передернуло. Она уже давно перестала сопротивляться. Поняла, что ему нравилось это, и она превратилась в безропотную, бездушную, безэмоциональную куклу, такой она стала для него, научилась отключаться в моменты ужасных свиданий. Она противостояла ему молча, стойко, как могла, противостояла, чтобы сохранить хотя бы толику самой себя.
– Передай письмо! – сквозь зубы выдохнула Оливия, напрочь отбрасывая этику.
– А что взамен? Тебе есть, чем заплатить, сеньора? – он ударил в дверь палкой, простым ударом требуя забрать поднос.
В этот раз Оливия не вздрогнула.
– Я скажу ему, что ты заходишь в мою камеру, что лапаешь меня, что хочешь трахнуть! – спокойно заявила Оливия, стоя нагнувшись, она держалась за поднос, протягивала свое письмо, написанное на листе бумаге, помеченное ее кровью. – У каждого есть цена, – уже себе под нос прошептала она. – Думаешь, что он мне не поверит, он не только не поверит, он проверит.
– Я хотел бы поиметь тебя, – он все-таки нагнулся.
Она увидела его блеклые глаза, маленькие, сузившиеся от ярости, что она, несмотря на то, что, маленькая женщина, осужденная за убийство, находившаяся в камере строго режима, смогла надавить на него, заставила сделать то, что он не хотел.
– Письмо отправь, – Оливия сильнее выдвинула руку.
Раньше, до ее заточения, такой разговор был бы совершенно не уместен, но за 20 лет все очень сильно изменилось.
Он неохотно взял письмо, и она втянула поднос. Затворка опустилась. Она снова одна, в камере 2,5 метра на 1,5. Для других осужденных это могло бы показаться апартаментами, для нее же это все не имело никакого значения. Совершенно одна, темнота ее верная спутница, когда ей объявили пожизненный приговор, камера стала ее маленьким убежищем, в которое иногда пробирался ее маленький друг, но уже несколько дней она не видела его. Оливия присела на кровать, поставила поднос на тумбочку. Ее взгляд не отрывался от календаря. 30 апреля…
…«Апрель, вот и снова апрель», – мужчина стоял около окна и смотрел на окно в противоположном здании, вечно задернутое шторами, словно там не было ни души. Терпкий горячий кофе обжог горло. Во всем здании, во всех окнах повесили жалюзи, и только в том кабинете за окном все оставалось нетронутым, там никогда не горел свет.
«20 лет», – он сделал глоток кофе. Воспоминания практически стерлись за это время. Он практически забыл, как встречал ее взгляд из того окна через несколько стекол. Эти переглядки он и помнил. Сначала они были соперниками, потом стали компаньонами, а потом в один день все перевернулось с ног на голову, ее кабинет закрыли, как будто бы запечатали. Ее не было, но она присутствовала незримо, особенно, когда он стоял вот так у окна и смотрел в окно ее кабинета, когда-то принадлежавшего ее отцу, словно ее призрак жил в том кабинете, его собственный призрак.
Порой ему казалось, что шторка колыхалась от ее движений, но он понимал, что это приходила уборщица, исправно убирающая кабинет, в котором никогда она больше не появится, но его пора заселять, пора делать ремонт, понимал он, пора кабинету принимать нового хозяина.
Они практически не соприкасались, но переглядки через стекла были их обычным делом и переход, в котором они встречались, чтобы пожать друг другу руки и передать документы, ровно посредине, у каждого была своя территория, за которую другой не переступал, незримая черта. В тот день, когда все произошло, они утром как обычно пили кофе, каждый в своем кабинете, их особый ритуал, и смотрели друг на друга, не зная, что это был их последний раз. Теперь он один стоял у окна, пил свой кофе, и его взгляд упирался в опущенные темные шторы.
Мужчина допил кофе и поставил на стол пустую чашку. Упершись рукой об стену, вторую руку сунул в карман, темная рубашка натянулась на его крепких плечах. Он опустил взгляд на календарь, стоящий на подоконнике. Неделя. Всего неделя и все решится. На его лице не дрогнул ни один мускул. Она в тюрьме и останется там навсегда, жизнь продолжалась и нужно было принимать решение, которое далось ему не просто, он продумал все, остались только маленькие детали.
– Сеньор Рейнальдо, можно мне уйти? – женский голос вырвал его из размышлений и заставил обернуться.
– Исабель, да, конечно, – кивнул он, слегка хмурясь. – Постой минутку, – он подошел к столу. – По договору, о котором мы с тобой говорили, есть ответ? – спросил он.
Девушка закусила губу и качнула головой:
– По сеньору Торресу? – все же уточнила она, хотя прекрасно понимала, о каком договоре шла речь.
– Да, – Рейнальдо указал пальцем на невидимый договор в сторону окна с закрытыми шторами.
– Нет, сеньор, – она все еще мялась у двери, она никак не могла подобрать слова, чтобы начать разговор.
Может быть он бы и заметил ее неуверенность, только не сегодня, в этот момент его взгляд остановился на календаре – 22 апреля. Он побледнел, рука потянулась к календарю, но он его не коснулся, сразу же встал, схватил пиджак и быстрым шагом вышел из кабинета, не заметив, что Исабель замерла у двери с открытым ртом, она так и не решилась сказать ему.
Девушка взглянула в окно на закрытое шторами окно в соседнем здании, тяжело вздохнула, опустила голову и закрыла дверь, как будто бы отгородилась. Словно если не смотреть, то и этого окна как бы и не существовало. Достала телефон и набрала номер.
– Матиас, – она прижала мобильный к уху, – я это сделала, – прошептала она, – слышишь? Скоро будет ответ, и ты знаешь, каким он будет, я все тщательно подготовила. Не кричи, – взмолилась она. – Да, да, я сейчас приеду, отпросилась, не ругайся, пожалуйста, мы у тебя поговорим, – попросила она и взяла сумочку, – Сеньор уехал, так что я свободна, и он отпустил меня, – она нахмурилась, слушая собеседника. – Максимилиано еще не знает, но ты же понимаешь, что ничего уже не изменить, – она попыталась улыбнуться, – ты же знаешь меня, если засело, то не остановлюсь. Я вся в дедушку Матиаса, тебя ведь в его честь назвали, – напомнила она, стараясь немного успокоить брата.
Исабель направилась к выходу, задержалась около настенного календаря и передвинула дату с 21 на 22 апреля…
…Ему никогда не нравились календари. Не любил он жить в рамках, ограничивать себя условностями, словно весь мир принадлежал только ему. Мужчина отодвинул бумажный перекидной домик с цифрами, мельком взглянул на папку, взял стеклянный куб с дротиком внутри и повернулся к окну, удобно расположив ноги на подоконнике, закурил сигару. Куб с дротиком держал в руке, смотрел на него своим единственным правым глазом. На месте левого красовалась черная повязка в виде надкусанного яблока.
Мужчина поправил повязку и улыбнулся. Он еще в детстве выбрал именно эту форму, очень она ему понравилась, а надкусанным его сделали мастера, чтобы ему удобнее было носить, так она и прижилась. Ему ни раз супруга предлагала вставить искусственный глаз, но ему нравилась повязка, он ощущал себя пиратом свободных морей. Свобода всегда и во всем. Он вертел куб в руках – свой самый первый трофей в жизни. Его маленькая победа. Столько их потом было, но эта была самая сладкая, самая горькая. Он закурил кубинскую сигару, медленно выдыхал маленькими колечками дым, слегка покачиваясь в кресле, отклонялся назад.
20 лет большой срок, но когда время на исходе, оказалось, что это ничтожно мало, он еще не успел насладиться. Аккуратно поставил куб на стол, смахнул невидимые пылинки, вновь крутанулся к окну, бухнул ноги на подоконник, поднес сигару к губам. Пальцы другой руки барабанили по подлокотнику. Он не видел ее 20 лет, и прекрасно понимал, что перед ним стоял выбор: неизбежная встреча с ней или… он втянул воздух. Размяв шею, вновь сделал затяжку и выпустил дым. Время спешило вперед, оно ни на миг не останавливалось, а он наслаждался сигарой, папка с документами лежала на столе позади него, а он просто смотрел в окно, на самолет, который набирал высоту.
– Сеньор Артуро, ваш чай с мятой, – робкий голос ворвался в его мысли.
– Что, Кармен? – он неохотно повернулся.
Перед ним стояла худенькая девушка в черном костюме, юбка не прикрывала колен, белая блузка слегка разошлась на груди, показывая мягкую округлость. Он смотрел отрешенным взглядом сквозь нее.
– Ваш чай с мятой, как вы просили, – она неловко начала ставить блюдце с чашкой, вздрогнула от его кашля, и несколько капель соскользнули с блюдца, устремились вниз, разбиваясь на стекле куба, под которым красовался простой дротик.
– Что ты наделала? – закричал Артуро и вскочил с кресла.
Он схватил куб и стал тереть его о свои брюки, трясся, словно капли горячего чая могли испортить стекло или навредить дротику.
– Простите, сеньор, – залепетала девушка, – я не специально, так получилось.
– Ты как всегда не расторопна! – Артуро рассматривал куб, вертел его в руках, подставлял под свет.
Он не обратил внимание, что сигара упала на пол, что она все еще дымилась, что на покрытии появился темный след.
– Ваша сигара, – Кармен смотрела на сигару.
Он осматривал стеклянный куб, вытирал уже не существующие капли. Все тер и тер, не в состоянии остановиться.
– Простите, я случайно, я не хотела, сеньор, – мямлила она, присела и подняла его сигару, положила ее в пепельницу.
– Выйди! – рявкнул он. – Сначала научись, – смахнул фарфоровую кружку в мусорное ведро, разливая чай по полу и столу. – Пусть тут все приберут, – распорядился он.
– Хорошо, сеньор, – в ее голосе послышались слезы.
Однако она сдержалась, пока не вышла из кабинета, и только там расплакалась.
– Серхио, – тихим голосом обратилась она к мужчине, стоявшему около кофе машины, – вызови Мартину.
Мужчина не спросил ее, почему она плакала, словно не замечал ее слез. Девушка метнулась в сторону туалета. Серхио посмотрел на приоткрытую дверь, пожал плечами, словно вся эта ситуация для него была привычным делом. Он увидел сеньора, но тот даже не заметил его.
Ему было все равно, что бумаги в папке намокли, что чашка разбилась. Только куб интересовал его и бумажный домик-календарь, который он всего лишь несколько минут назад небрежно отодвинул в сторону. Неделя. У него неделя, его загоняли в рамки, Артуро поставил куб на полку в шкаф и закрыл дверцу. Ему бы хотелось выбросить календарь в мусорное ведро, но пальцы просто сжимались, сминая твердый бумажный домик…
…бумажный скрученный шарик, направленный четкой рукой, коснулся центра, слегка отпружинил и устремился вниз. Одно и тоже движение уже много лет подряд. Это стало ее единственным развлечением, порой ей казалось, что она сходила с ума, но мысли, словно ее проклятие оставались ясными и четкими. Она помнила многое, что хотелось бы забыть и не вспоминать.
Когда-то она очень любила дартс, вместе играли с братом, собирались участвовать в соревнованиях. Оливия подтянула ноги и обняла колени руками, спиной уперлась в холодную стену. Все, что у нее осталось – это только воспоминания. Воспоминания о том, какой ее была жизнь до той черты, когда она впервые ее переступила. Тогда она и не думала, что в последний раз держала в руках дротик.
Артуро приболел, и отец хотел оставить его дома, чтобы ехать с ней одной на ее первые несостоявшиеся соревнования, мама уже тогда умерла. Оливия поняла, что почти не помнила, как выглядела мама, да и образ отца становился блеклым, тусклым. В ее воспоминаниях он всегда был серьезным, практически угрюмым. Он с каким-то укором смотрел на своих детей после смерти жены.
Она уже не помнила из-за чего разгорелась у нее с братом ссора, но очень четко помнила то, что случилось потом, когда она со злости кинула в него обычный дротик. Оливия клялась, что она не хотела, что просто так получилось, что она не специально, но отец словно не слышал. Артуро рыдал и бился в истерике, он был весь в крови. Вместо того, чтобы вести ее на соревнования, ее оставили дома с няней. Отец уехал с Артуро в больницу… назад они вернулись спустя неделю. Артуро смотрел на нее одним глазом, второго глаза у него больше не было и в этом была ее вина, так он ей и сказал. Черное яблоко с надкусанным боком – странная повязка на лице брата стала ее проклятием, ее живым напоминанием в том, что она искалечила своего родного брата простым обычным дротиком, попала прямо в цель, в яблочко…
– Возьми яблочко, наверняка еще не обедала, а уже скоро ужин, – молодой человек протянул ей тарелку с фруктами.
– Я не люблю яблоки, – отказалась она и присела в удобное кресло. – У тебя сегодня были клиенты? – спросила Исабель.
Матиас покачал головой.
– Что будем делать? Скоро срок аренды, – напомнила она, – а у нас с тобой нет денег.
– Не уходи от разговора. Денег нет, и ты потеряешь свою хорошую работу из-за того, что сделала, – он подкатил второе кресло и сел напротив нее.
Исабель качала головой, словно соглашалась с ним, и в то же время внутри нее поднималась буря протеста:
– Ты понимаешь, что, – она не договорила.
– Это ты понимаешь, что сделала? – перебил он ее. – Ты понимаешь, что возможно разрушила свою карьеру, свою жизнь? Что скажет Макс, когда узнает?
– Что я узнаю? – услышали они веселый голос, и в салон вошел высокий статный молодой человек с волнистыми волосами, взлохмаченными легким ветерком. Он снял темные очки и широко улыбнулся. – Так что я не знаю или должен узнать? – спросил он.
Исабель побледнела. Матиас качнул головой и улыбнулся.
– Она пораньше ушла с работы, а теперь переживает, что скажет твой отец, когда обнаружит это, – на одном дыхании выдохнул Матиас, спасая ситуацию. – Привет, – он встал с кресла и протянул ему руку.
– Не переживай, папа занят делами, даже не заметит, – отмахнулся Максимилиано, – тем более его нет на работе, так что даже не волнуйся.
Он шагнул к девушке, наклонился и поцеловал ее макушку:
– Как же ты вкусно пахнешь, – прошептал он.
– А тебе пора подстричься, – она смотрела на него снизу наверх, румянец окрасил ее щеки.
– Поэтому я и пришел сюда, а тут ты, – он смотрел в ее глаза.
– Я вам не мешаю? – напомнил о себе Матиас
Исабель и Максимилиано засмеялись. Макс отвернулся от нее, и Исабель выдохнула. Она не была готова признаться ему в том, что сделала. Не сегодня, у нее еще было время, или не было. Она поджала губу, смотря как Макс усаживался в кресло, а Матиас брал в руки ножницы.
– Не грусти, – заметил ее озабоченный вид Макс, – сейчас Матиас поколдует, и мы все вместе пойдем ужинать.
Матиас взглянул на нее, Исабель грустно улыбнулась, понимая, что эти ужины скоро закончатся. Макс никогда не простит ее…
…Он не мог простить себя. Рейнальдо опустил темные очки и вышел с территории кладбища. Как он мог забыть эту дату? Он не понимал. Что с ним случилось? Рейнальдо стоял около своей машины и дышал пыльным сухим воздухом. Пожилой мужчина с тростью в руках, постукивая ею, слегка сгорбившись, прошел мимо него.
Он много лет наблюдал за теми, кто приходил и уходил с этого кладбища. Обычно это были женщины. Он давно отметил одну закономерность, что у надгробий редко встречались мужчины, все-таки женская доля оплакивать умерших. Редкий мужчина с оранжевым букетом невольно бросался в глаза. Рейнальдо стоял и смотрел, ему бы уехать, но почему-то ноги не слушались, он все еще себя винил за забывчивость ему несвойственную, поэтому стоял, чтобы еще немного побыть рядом. Посещения кладбища всегда давались ему нелегко, особенно в этот раз. Раньше всегда помнил, да и маленький Максимилиано просился к матери. Может быть ему не стоило идти у него поводу и водить на кладбище, но они ходили вместе, только не в этот день, этот день принадлежал ему одному, как и тому мужчине с тростью, сгорбленному печалью, не смирившемуся с утратой.
А он сам принял утрату, смирился с нею? Что было для него это все? Рейнальдо кашлянул, прочищая горло. Мужчина с тростью обернулся и взглянул на него сквозь большие очки в массивной оправе. Он смотрел на него очень внимательно, пристально. Рейнальдо слегка кивнул, ощущая непонятно откуда-то взявшуюся неловкость и странное желание поздороваться. Невольно, молча возник вопрос – а кто умер у него, кого потерял? Сильно ли он любил того, кого с ним нет рядом? Любовь. Рейнальдо качнул головой, открыл дверь машины и сел за руль. Он давно не знал любви. Не в его положении желать любви, ему нечего было предложить взамен, вот и бежал, бежал от самого себя, понимая, что и его бег мог остановиться в любой момент, время никого не щадило…
…как всегда никого не было дома, родители постоянно зависали на работе. Молодая девушка положила ноутбук на столик и покрутилась у зеркала. Значит и ей пора напомнить о себе. Тем более она почти сутки не видела его, это очень долго, и она безумно соскучилась по нему. Ее личико озарила улыбка, глаза заблестели, ей не терпелось обнять его.