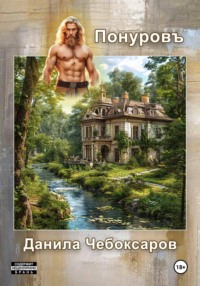Полная версия
Чапаев в бане
Тем далёким и невозможным летом, жарким, знойным, душным и гостеприимным, как Ад, я гостила у бабули с дедулей. То была настоящая Жопа Мира: ни инэта, ни ТВ, даже радио с жуткими помехами ловило единственный госканал; до ближайшего сельпо 9 км по пересечённой местности – за пивасиком вечерком не сбегаешь; приходилось радоваться даже тому, что время от времени имелось электричество, ибо дед Натан соорудил какой-то генератор, работавший, впрочем, с частыми перебоями.
По бескрайним буколическим просторам я порхала в выцветшем красном платьице, коротеньком и детском, бесстыдно пренебрегая нижним бельём, поелику тогда я была юна и беспечна, точно молодая лань. Бабуля Аграфена неодобрительно качала седой головой в платочке, а дедуле Натахе мой наряд определённо нравился – я неоднократно замечала бугор на его немыслимых залатанных шароварах. Впрочем, мои старики вовсе не были ещё старыми – им тогда не исполнилось ещё и шестидесяти лет.
В день моего приезда они вспомнили молодость и с четверть часа перед сном задорно пыхтели, старательно скрипя дряхлой, но ещё стойкой деревянной кроватью – видно, их тлеющие угли распалило присутствие в доме юной свежей плоти. Лёжа на печи, я внимала их тихим сладким стенаньям, и мне тоже стало хорошо, покойно и мокро.
На следующий день я вызвалась помочь дедуле Натахе с причёской – у него имелась какая-то чуть ли не довоенная механическая машинка для стрижки волос. У деда была окладистая русая борода, местами седая, и довольно короткие, целиком белые волосы, которые бабуля Груняха подравнивала этим архаичным агрегатом раз в месяц. Ножницами я подкоротила ему бороду, а машинкой, забавы ради, соорудила ему андеркат, выбрив наголо затылок и виски. Увидев себя в зеркале, дедуля изменился в лице, а бабуля сначала всплеснула руками, а потом расхохоталась, согнувшись пополам и уперев ладони в бёдра. Вслед за ней захохотал и дед.
А потом я увидела Его – и оказалась поражена в самое сердце. Брутальный, гордый, статный красавец. Рога как у Люцифера, борода и яйца до земли, неприступный вид – три пуда харизмы! Мой сердцепоразитель стоял на куче навоза, будто на Олимпе, Эвересте, горе Фудзи! Словно на вершине мира! Как потом выяснилось, и имя у него было очень подходящее – Варфаил. Правда, старики чаще называли его запанибратски, Варькой, но это, разумеется, ничего не меняло. Конечно, назвать любовью моё чувство было бы тяжело, странно и неправильно, но влечением оно было несомненно – и влечение это возрастало с каждым часом, с каждой минутой, с каждой секундой, с каждым мгновением.
Следующей ночью дедуля и бабуля опять покряхтывали перед сном, я их рассеянно слушала и думала о Нём. Он пригрезился мне во сне: на вершине заснеженной горы, на фоне восходящего солнца, образующего вокруг его велерогой головы подобие нимба, с державно дрожащим жезлом любви…
Однажды я пошла гулять с Варфаилом в лес, в самую глушь, в самую чащу. Солнце ветхозаветно просвечивало сквозь густую сень деревьев, райски ворковали лесные птички; Он гордо щипал сочную травку, ягодки и папоротник, а я любовалась и наслаждалась Им. И ничего более, ничего…
Всё когда-то заканчивается, не так ли? Через неделю я уехала. Но не забыла о Нём. Сейчас я дряхлая тридцатилетняя старица, но до сих пор храню в своём сердце тёплые, светлые и тихо-радостные воспоминания о моём незабвенном альфа-козле.
Платоническая элегия
О благодатные, милосердные, добрые, изобильные, целомудренные советские годы! Безвременно почившая, но не забытая эпоха! То были 60е годы, их завершение. Мы с сокурсниками отправились в лагерь дружбы народов «Скромная колхозница», что под Ульяновском. Туда же прибыли наши молодые товарищи из дружественной ГДР. Мы были юны, стройны и невинны, как небесные ангелы на фресках Леонардо. Впрочем, мой возлюбленный был не совсем стройным, скорее наоборот, толстеньким и малорослым; но мне это не представлялось чем-то отталкивающим, напротив – это привлекало меня в нём. Звали его удивительно – Фридрих! Фридрих как Энгельс, Фридрих как Шиллер, Фридрих как Барбаросса!
Мы тихо и трепетно полюбили друг друга с первого взгляда, слуха и вздоха – как Ромео и Джульетта, как Тристан и Изольда, как Антоний и Клеопатра, как рабочий и колхозница!
Свежий, словно эфир, благотворный сельский воздух, прогулки по тенистым липовым аллеям, которым не мешали толпы ГэБэшников в галстуках и тёмных очках, бдительно сновавших туда, сюда и обратно. Пламенеющие закаты, нежносветные рассветы, неторопливые беседы об искусстве Возрождения и французских философах… Мы часто держались за руки – грешны! – но ни одного, даже самого лёгкого и целомудренного поцелуя! Только такая любовь и имеет право быть на нашей грешной, многострадальной земле!
Неделя пролетела как мгновение. Он уехал в Восточный Берлин, я в свой любимый Ленинград. Мы писали друг другу каждую неделю, потом всё реже и реже. Мой Тристан быстро обратился в безобразно жирного бюргера (он прислал мне фотографию), я стала тучной целлюлитной советской домохозяйкой. Но что же делать? Се ля ви, как выражались французы прошлого. Пусть так, но любовь наша умрёт только вместе с нами!
Ворона у моря
У самой кромки воды ходит потрёпанная, битая жизнью, но всё ещё полная собственного достоинства ворона. Она не ищет себе пропитания – она словно прогуливается, любуясь осенним пейзажем. Ворона отводит взгляд от бесконечной воды и смотрит на немолодую женщину. Женщина пьёт дрянное красное вино из пластмассового прозрачного стаканчика и не переставая курит тонкие ментоловые сигареты. Ей сорок шесть лет. На ней красный раздельный купальник. Складки жира на животе, толстые целлюлитные бёдра, дряблые обвисшие груди. Лицо, никогда не отличавшееся красотой, несёт на себе неизгладимый налёт приближающейся старости, и чрезмерный слой косметики уже не делает его хотя бы мало-мальски привлекательным. У женщины есть взрослый сын, который с ней практически не общается. Муж, прожив с ней 15 лет, ушёл и женился на молоденькой пигалице. Через неделю она вернётся домой и пойдёт на ненавистную работу. Мужчины даже не смотрят в её сторону; иногда ей кажется, что она готова отдаться любому, кто обратит на неё внимание. Заметно холодает – начинает дуть северный ветер, солнце затягивает облаками, похожими на картофельное пюре; отдыхающие покидают пляж. Ворона, вспугнутая детским вскриком, величественно, гордо, будто орлица, улетает в сторону дюн. Немолодая женщина смотрит на изжелта-зеленоватые волны и думает о том, что никчёмная её жизнь уже давно закончена.
Эксцентричная барыня
(отрывок из романа «Понуровъ»)
Марла Андреевна Одоевцева сидела медной ванне перед распахнутым в сад окном и осторожно брила подмышку. Проходивший мимо мужик Михайло увидел барыню и остановился, уперевшись взглядом в голые титьки.
– Здрасьте, Марья Андревна!
– Марла Андреевна, – молвила графиня, не прекращая бритья и не глядя на мужика.
– Язык у меня не поворачиваецца так говорить, Марья Андревна! – хмыкнул тот виновато.
Одоевцева закончила с левой подмышкой и, споласкивая в воде бритву с перламутровой ручкой, посмотрела на Михайлу.
– И долго ты на мои сиськи пялиться будешь? – спросила она даже с интересом.
Михайло глупо ухмыльнулся, но взгляд не отвёл. И тут получил увесистый подзатыльник.
– Ах ты охальник! За барыней подглядывать! Ужо я тебе! – в окне появилась его жена Василиса. – Здрасьте, Марья Андревна!
– МАРЛА, блядь, Андревна!! – рявкнула графиня. – Пошли вон отсюда!
Она задёрнула занавеску и принялась за вторую подмышку.
Марла, по паспорту Марья, Андреевна Одоевцева и её супруг Виктор Сергеевич были заядлыми англоманами. Графиня неустанно, но безуспешно пыталась добиться того, чтобы дворовые называли её на английский манер – но крестьяне только недоумевали и частенько шептались между собой: «А баре-то у нас ебанутые!»
И причиной тому было отнюдь не только требование барыни называть её басурманским именем. Хозяева вычурно одевались, разговаривали между собой на чужом языке, имели странные привычки (как, например, мыться с не зашторенным окном и ходить по дому голыми), и бесстыдно занимались блудом, в том числе свальным, привлекая к этому и самих крепостных). Кроме того, они были единоутробными братом и сестрой.
С весны по осень они жили в Разумовском, родовом поместье Марлы Андреевны, урождённой Разумовской, а на зиму уезжали на Туманный Альбион. При них постоянно находились лакей Иван, которого супруги называли Джоном, и горничная Лизавета, Лизбет – эти слуги были их постоянными эротическими компаньонами.
Марле Андреевне 26 лет. Это худощавая молодая женщина среднего роста, малогрудая и долгоногая. Она брюнетка, прямые волосы до плеч, резкие, но приятные черты овального лица.
Закончив с бритьём, графиня смазала подмышки оливковым маслом и выправила бритву (английскую, разумеется) на кожаном ремне. Препоясавшись полотенцем, она вышла в гостиную, где Джон, смазливый белокурый парень с бритой бородой, накрывал на стол к завтраку.
– Good morning ma'am, – он весьма сносно, даже хорошо говорил по-английски.
– Hello, Johnny.
Одного взгляда на полуголую барыню хватило, чтобы его штаны встопорщились – что не осталось ею незамеченным. Графиня усмехнулась, с готовностью скинула с себя полотенце и легла грудью на стол, выпятив маленький зад. Лакей, поспешно спустив штаны до колен, овладел ею сзади.
В гостиную вошёл Виктор Сергеевич.
– Ух, уже приступили к утренней гимнастике! – весело сказал он по-английски. Подобные развлечения со слугами были у супругов обыкновенны. – Какие молодцы!
Минут через десять Джон закончил, и граф подменил его.
На завтрак были тосты с маслом и малиновым джемом, овсянка на молоке и чай со сливками.
– Сегодня, похоже, опять будет невыносимо жарко, – заметила Марла Андреевна, промокнув салфеткой губы и прикурив пахитосу.
– Похоже на то, – отозвался Виктор Сергеевич, также закуривая.
– Тем не менее, мы же поедем завтра на боксёрский турнир? Да, Вик?
– Разумеется. Здесь слишком мало развлечений, чтобы пропускать подобное зрелище из-за жары.
– Говорят, будет участвовать сам князь Понуров, – сказала графиня.
– Да, это обещает быть интересным, – сказал граф.
– Может быть, потом пригласить его к нам? В прошлый раз мне весьма понравилось – он красивый мужчина и исключительный любовник, хоть уже и не молод.
– Но ещё и вовсе не стар, – заметил Виктор Сергеевич, затягиваясь. – Давай пригласим, почему бы и нет?
Случай в деревне
Случай лисы
Молодая лиса без всякой надобности и намерений прогуливалась по опушке леса, невдалеке от просёлочной дороги. Она завидела почти совсем голого человека, неспешно вышагивающего по дороге. «Пойду-как пообщаюсь, – подумала лиса, – всё равно делать нечего». Но человек повёл себя странно: орал не своим голосом, потом снял тапок с ноги и стал им размахивать. Когда он начал подбирать с дороги камушки и швыряться ими, лиса отбежала, недоумённо оглядываясь. «Ебанутый какой-то человек попался, – подумала она, – Бешеный, наверное». И побежала восвояси.
Случай человека
Молодой человек без всякой цели прогуливался по пыльной просёлочной дороге. Ввиду адской жары на нём были лишь бриджи на голое тело. Боковым зрением он заметил кого-то в траве на обочине дороги. «Собака, наверное», подумал человек. Но это оказалась не собака, а маленькая лиса. «Фу! Уйди! Фу!» – заорал он. Снял тапок и попытался отогнать им животное. Потом додумался кидать в лису камнями, и та убежала в кусты. «Ну слава богам, – подумал он, – отбился от бешеной лисы!» И побрёл домой.
Поездка в Джемете
Машка с Мишкой только-только поженились. Денег было впритык (к тому же Мишка был детдомовский), и свадьбу сыграли весьма скромную, в дешёвом кафе, которое даже не удалось снять целиком.
На подобие «медового месяца» решили отправиться под Анапу – Турция, Бали или Египет исключались по финансовым соображениям, в Крым ехать опасались. Поскольку большую часть денег на отдых выделила из своего скромного бюджета Машкина мама, то поехала и она сама, с молодым сожителем Варфоломеем, младше её на десять лет.
Алле Викторовне недавно исполнилось 37, она была в самом соку и прекрасно, моложаво выглядела (только груди фатально обвисли, но она постоянно носила закрытый бюстгальтер, который не снимала даже на ночь и во время секса). Гражданский муж её, Варфоломей, был молодым, смазливым и не очень умным мужчиной с внушительным пенисом. Он не работал и находился на содержании любушки, но Алла Викторовна любила его – за большой член и то, что он никогда ей не изменял (по крайней мере, так она думала и так он утверждал).
Машка была красивенькой девушкой с завидным интеллектуальным потенциалом. В прошлом году она окончила школу, но для поступления в ВУЗ не сдала на ЕГЭ обществознание, предмет, будто специально созданный для того, чтобы ломать будущность талантливых отроков. Машка пошла работать в «Магнит-косметик». Машкин новоиспечённый супруг, высокий и некрасивый, но с изюминкой юноша, окончил технический колледж и собирался поступать в институт с военной кафедрой.
В Джемете прибыли в пять утра. По свежей и непривычно пахнувшей морем прохладе неспешно дошли до Пионерского проспекта. Заселились, позавтракали в открытом кафе и оставшийся день провели на пляже. Машка слегка обгорела.
Вечером затарились местным порошковым винишком и разливным пивом, купили чипсов и сухариков. Расположились за пластмассовым квадратным столиком во дворике рядом с номерами. Журчал маленький искусственный водопад, рядом с которым лежал пушистый кот, толстый, сивый и каких-то непостижимых размеров, скорее подходящих для рыси.
Мать с дочкой пили белое вино, Мишка красное, а Варфаломей предпочёл «пивчанское» – он был великим поклонником этого напитка. Лёгкий алкоголь, пусть и далеко не лучшего качества, пошёл на ура, и когда Джемете накрыли тёплые сумерки, все четверо порядком набрались и раскрепостились.
– Ты ни разу и словом не обмолвился, Мишаня, как тебе твоя благоприобретённая молодая тёща? – откровенно кокетливо обратилась Алла Викторовна к зятю.
При этом её сожитель громко усмехнулся с каким-то неуместным самодовольством, но Варфоломей вообще был с громадным самомнением, в разы превышающем размеры его пениса, и не в меру мудаковат.
– Вы словно роза зимой в парнике, Алла Викторовна! – с жаром высказался зять и украдкой взглянул на юную супругу, которая после его фразы пьяно прыснула со смеху, веером брызнув вином на стол.
– Пипец, Майк, ты кавалер! – сказала Машка, отдышавшись. И снова расхохоталась.
Тёща же оказалась весьма польщена – ей никогда в жизни не делали таких необычных комплиментов.
– Говори мне «ты», Миша, сколько раз тебя просила! – молвила моложавая тёща с укоризной.
– Не могу! – горячо отозвался зять. – Я всегда говорю «вы» людям старше себя!
– Но Варьке-то тыкаешь! – опровергла тёща.
– Он мужик и старше меня всего на пять лет! – не сдавался зять.
– На шесть! – надменно поправил Варфоломей и глотнул пивчанского.
– Чёрт с тобой, зятёк! – шутливо обиделась Алла Викторовна.
Всё произошло очень обыденно и как бы само собой – зять пошёл в номер с тёщей, самодовольный отчим – с пасербой. Член зятя оказался внушительнее Варькиного и не в пример манёвреннее. Машке с формальным батюшкой тоже понравилось больше, чем с новоиспечённым мужем.
Вернувшись в Москву новобрачные незамедлительно развелись по обоюдному согласию. Машка расписалась с Варфоломеем, Мишка переехал к Алле Викторовне и стал говорить ей «ты». Все были счастливы – насколько это возможно, и уж совершенно точно – довольны.
Чапаев в бане
– Блять! – сказал Чапаев досадливо. – Блять, блять, блять, ёб твою мать! Блять!
– ПоштО ругаисьсси, Василь Иваныч? – жизнерадостно раздался из сеней молодой «окающий» голос. – Да так ОдноОбразнО!
– Блядские ткачи крестьян грабют! – в сердцах вскричал комдив. – Ёб их мать!
В избу вошёл его ординарец Петька, в крестьянских шароварах и белой, не очень чистой рубахе навыпуск.
– Давай пару тел расстреляем, хули, – деловито сказал Петька, подбоченясь.
– Жалко, блять! – отозвался Чапаев с досадой. – Товарищи наши, всё-таки!
– Какие они нам, нахуй, тОварищи, – разумно рассудил Петька. Он был родом из Новгорода и безбожно «окал». – Мудачьё гОляцкое, а не тОварищи!
– Ты, блять, Петька, очень умный, я гляжу? – с интересом спросил Чапаев, иронично глядя на ординарца прищуренными мутно-карими глазами. – Расстреляем, а если што вдруг, кого потом под трибунал? Тебя, што ли? А?
Петька убавил спеси и отвёл взгляд, остановившийся на двух мутных бутылях из-под самогона, выпитых накануне в бане.
– Нет, блять, меня! – сказал комдив. – Меня под трибунал!
– Не серчай, Василь Иваныч, хуйню смОрозил, – молвил Петька сконфуженно. Немного подумал и добавил: – А мож хуй с ними, с ткачами-тО? Грабют и грабют, хули!
– Нет, Петька! Не за то мы кровь проливаем, чтобы самим крестьян да рабочий люд дербанить! Коммунизьм такого не предусматривает!
– Хуй с ними, командир, серьёзно те говорю! – сказал Петька беспечно. – Пойдём лучше Аньку выебем!
Он произнёс это таким беззаботным тоном, что комдив невольно задумался, огладив обвисшие усы. Сегодня Чапай был в плохом настроении и поэтому не нафабрил их и не задрал кончики вверх, как обыкновенно поступал утром после бритья; сегодня он даже не брился.
– А и пойдём, хули! – воскликнул Чапаев, повеселев и даже подхватив любимое Петькино междометие. – Приходи с нею в баню, а я пойду посру покамест.
Довольный Петька с шумом потёр ладони и шустряком побежал в импровизированную казарму, под которую оборудовали старый просторный амбар с полусгнившей крышей, покрытой дранкой.
Аньке Сбруневой, по прозвищу Пулемётчица, ещё не исполнилось и двадцати. Свежая, белокурая, синеокая, ладная, сисечки высокие, упругие – огонь девка! О ней грезила вся дивизия, но давала она только командиру и его ординарцу.
– Пошли-ко, Анна Ивановна, Чапай зовёт!
Та понимающе усмехнулась и отложила портянку, которую штопала.
Все трое по очереди подмылись, зачерпывая ковшом воду из большого чана. Пока Чапаев драл в парной Аньку – а делал он это обстоятельно, добротно, по-командирски капитально – ординарец накрыл в предбаннике скромную поляну: варёная картошка в чугуне, несколько луковиц, свежие огурцы и зелёный лук, краюха серого хлеба и штоф деревенского самогона.
После того как попотел с Анькой в парной и Петька, сели за стол. Разливал, как всегда, Василий Иванович – себе и ординарцу по полному стакану, Аньке, как барышне, половину.
– Ну што, бойцы! – провозгласил Чапаев. – За победу мировой революции!
Звонко, с размаху чокнулись и выпили – и понеслась Красная Армия!
Наутро комдив отдал приказ расстрелять трёх самых несознательных ткачей за мародёрство.
Ушедшее
Светлане Битюцких
It was many and many a year ago,
In a kingdom by the sea,
That a maiden there lived whom you may know
By the name of Annabel Lee <…>
She was a child and I was a child,
In this kingdom by the sea,
But we loved with a love that was more than love —
I and my Annabel Lee…
Edgar A. Poe1
Ей было шесть лет, мне только-только исполнилось семь. Два небольших дачных домика, которые её и мои родители снимали на лето, стояли по соседству. Родители наши не ладили, – но мы с Дашей были неразлучны весь тот скоротечный август. Нам всегда было весело и хорошо вдвоём, что бы мы ни делали – попеременку играли то в девчачьи, то в мальчишечьи игры, ходили в лес, на речку или просто бродили по посёлку. Я очень привязался к ней – засыпал, представляя её, просыпался с мыслью о ней, и даже во сне, почти каждую ночь видел Дашу.
Однажды мне не спалось; глядя в окно, я думал о ней – о том, что она удивительная девочка, такая, какой больше нет и не может быть на всём белом свете. И вдруг, всё моё существо наполнило необычное чувство – так призрачно-чёткий свет величавой луны наполнял тесную комнатушку, где я лежал на кровати и чувствовал себя по-настоящему, совершенно счастливым – в первый, и, пожалуй, последний раз в жизни.
На следующий день мы пошли купаться на речку. Было очень жарко, и мы долго барахтались в ледяной проточной воде. Когда наконец вылезли на берег, уставшие и довольные, я объяснился ей в любви – просто сказал:
– Я люблю тебя, Даша.
Она немного помолчала, ласково и одновременно строго на меня глядя, и так же просто ответила:
– Я тоже тебя люблю.
Я подумал, что нужно поцеловать Дашу; нагнулся к её лицу, почувствовав терпкий запах загорелой кожи и свежей воды – и у меня сладко закружилась голова. Губы у Даши были пухленькие, яркие, густо-красные, словно от сока спелой малины; зажмурив глаза, я прикоснулся своими губами к её, малиновым.
– Ну вот, теперь мы должны пожениться, – деловито произнесла Даша.
И хотя я был с ней полностью согласен, мне стало смешно – мы, такие маленькие, а теперь должны пожениться; но я сдержал смех, открыл глаза и серьёзно подтвердил:
– Конечно.
И, под стремительное журчание быстрой речушки, мы бесконечно долго обсуждали, как поженимся, будем жить дружно и никогда не ссориться, как подружатся наши родители и мы станем одной большой семьёй.
А потом Даша уехала. Видимо, родители неожиданно решили вернуться в Москву, и по какой-то причине не отпустили её попрощаться со мной. А я не знал её телефона, где она живёт, не знал даже её фамилии.
Мне казалось, что жизнь моя кончена. Я ушёл на речку, на то место, где мы объяснились друг другу в любви, лёг на землю, уткнулся лицом в траву – и зарыдал. Рыдал и рыдал, рыдал безудержно, безутешно. Потом встал, с решимостью подошёл к самой воде… но мне сделалось страшно. Кинуться в проворный поток, навсегда скрыться под этой ледяной водой – я понял, что не могу этого сделать. Вытер слёзы и побрёл домой.
А первого сентября я пошёл в школу. Громада новых впечатлений постепенно заслонила собою образ Даши. Я стал забывать её, и через какое-то время забыл совершенно. Я окончил школу, отслужил в армии, отучился пять лет в театральном институте; полтора года проработал в захолустном провинциальном театришке, разочаровался в искусстве, вернулся в Москву и стал зарабатывать деньги, случайно устроившись в довольно крупную торговую фирму.
И вот однажды, безуспешно пытаясь разогнать скуку в средней руки московском клубе, у стойки бара я увидел её. Не знаю, как я смог узнать её; но сразу понял – это она. И мгновенно, ярко и живо, будто это было совсем недавно – вспомнился тот двадцатилетней давности август.
Я подошёл; она была в мини-юбке и откровенно-открытой блузке; перед нею рюмка – наверное, водки – и пачка «Петра».
– Даша, – неуверенно, то ли вопросительно, то ли утвердительно сказал я.
Она быстро повернулась ко мне. Она сильно изменилась – до неузнаваемости. Худа, поджара; черты лица мелкие и резкие; губы – когда-то пухлые и малиново-красные – стали тонкими и поджатыми. В выражении слегка осунувшегося лица – она много курила, и, видимо, пила – и во взгляде маленьких, сильно накрашенных глаз появилась какая-то озлобленность, стервозность; и всё же это была она, и она была – пусть не красива, но привлекательна – привлекательна, может быть, именно этой стервозностью.
Непонимающе-пристально смотрели на меня маленькие, агрессивно-накрашенные глаза. Она меня не узнала; и когда я сбивчиво, коротко напомнил ей, что было тогда, двадцать лет назад – хоть и сделала вид, но не вспомнила меня. И всё-таки поехала со мной.
У меня на кухне, почти не разговаривая, мы выпили две бутылки плохого грузинского вина; потом я робко, так же, как тогда, поцеловал Дашу. Её тонкий язык – мне показалось холодный, змеиный – остро скользнул мне в рот.
Всё получилось быстро, судорожно и холодно. Когда я проснулся, она уже ушла.
Больше мы никогда не виделись.
Неожиданность
– Исполнилось вам восемнадцать-то, мадам? – спросил он.
– Коли уж интересуетесь, тогда уж скорее «мадмуазель», – заметила она.
– О! Милль пардон! Вы совершеннолетняя, мадмуазель?
– С какой стороны посмотреть.
– О! Юна, красива, стройна – ещё и остроумна!
– А вы думали-с, – улыбнулась она тонко и загадочно.
– Однако ж если посмотреть со стороны даты рождения – есть вам восемнадцать?