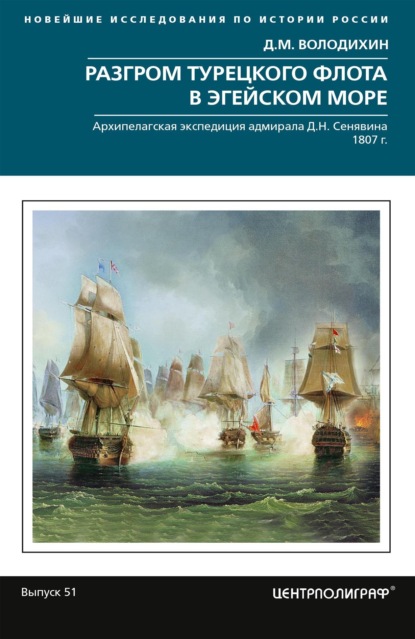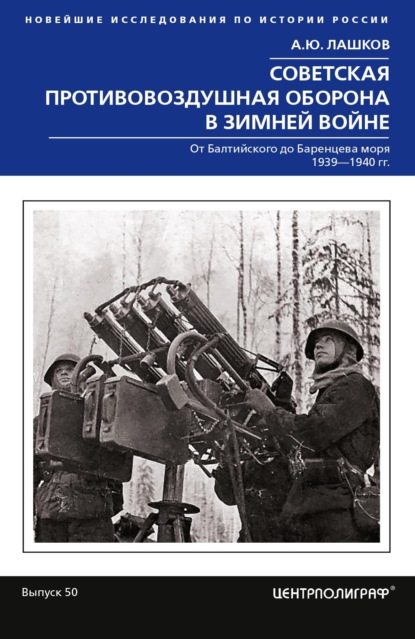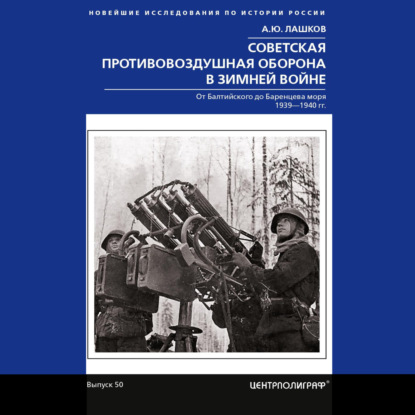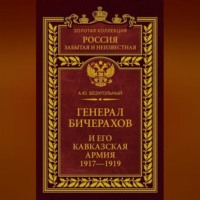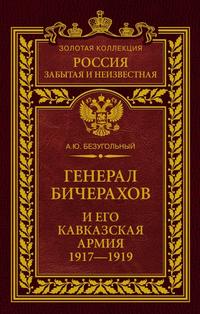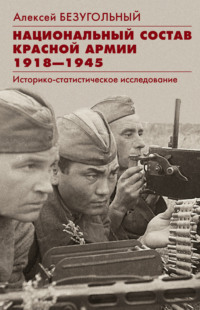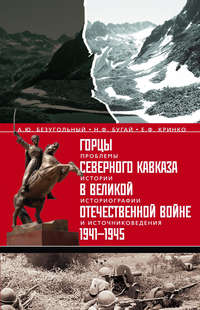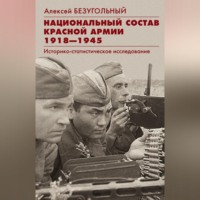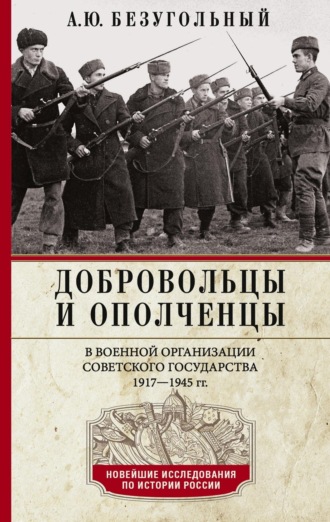
Полная версия
Добровольцы и ополченцы в военной организации Советского государства. 1917—1945 гг.
Среди архивных материалов наибольшую ценность для исследования представляли фонды Управления делами Народного комиссариата по военным делам (ф. 1); Всероссийской Коллегии по организации и формированию РККА при Наркомвоене (ф. 2); Полевого штаба РВСР (ф. 6); Штаба РККА (ф. 7); Высшей военной инспекции РККА (ф. 10), Всероссийского Главного штаба (ф. 11), Секретариата Председателя РВСР (ф. 33987) и других фондов Российского государственного военного архива (РГВА); фонда Народного комиссариата по делам национальностей (Р-1318) Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ); фондов Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Красной армии (ф. 7); Главного политического управления РККА (ф. 32); Главного управления формирования и укомплектования войск Красной армии (ф. 56), Московского военного округа (ф. 135), а также фондов отдельных воинских формирований Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ), материалы Комиссии по истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. академика И.И. Минца из фондов Научного архива Института российской истории Российской академии наук (НА ИРИ РАН. Ф. 2, разд. 2, 3, 9) и материалы городских архивов Москвы и Санкт-Петербурга. Хочется отметить содержательный фонд политотдела Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО) в Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб. Ф. Р-2281), дающий объемное представление об обстоятельствах формирования армии добровольцев. Московское ополчение такой концентрацией архивных материалов похвастаться не может.
В работе задействован доступный массив личных воспоминаний государственных и политических деятелей[57] и руководящего состава Красной армии[58], а также рядовых добровольцев[59]; материалы СМИ и пропагандистских изданий изучаемого периода[60].
Если оценить объем и качество документальной базы, то, безусловно, период Гражданской войны лучше обеспечен первоисточниками, прежде всего потому, что добровольческий способ комплектования Красной армии был одним из приоритетных на протяжении всей Гражданской войны. Даже когда советская власть перешла к массовым мобилизациям, добровольчество сохраняло свое политическое и военное значение. Оно подлежало учету органами военного управления. Поэтому в архивных фондах военного ведомства отложился достаточно большой пласт разнообразных документов по теме – нормативных организационно-распорядительных, отчетных, учетно-статистических. И это – несмотря на все несовершенство делопроизводства первых лет советской власти. Массив документов распределен по хронологической оси неравномерно, заметно возрастая и по качеству, и по объему к концу Гражданской войны. Кроме документов, хранящихся в РГВА, в советский период большой объем документов, отражающих историю Красной армии в годы Гражданской войны, был опубликован в академических сборниках. Все это позволяет составить достаточно полную картину развития добровольчества в этот период.
В отношении периода Великой Отечественной войны этого не скажешь. В структуре центрального аппарата Наркомата обороны СССР за период войны не имелось органа, ответственного за прием, учет и правовое сопровождение службы добровольцев Красной армии и добровольческих военизированных формирований, если не считать совсем недолго просуществовавшего в составе Главного управления формирования и укомплектования войск Красной армии (Главупраформа КА) «1-го отдела призыва, укомплектования военнообязанными, новобранцами и добровольцами»[61]. Однако какой-либо документации о работе отдела с добровольцами в фонде Главупраформа не выявлено. Тем не менее интересующие нас материалы встречаются в документах различных подразделений обширного фонда Главупраформа и менее обширного (в доступной его части), но также чрезвычайно важного фонда Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Красной армии. Однако в целом добровольчество в годы войны оставалось на периферии внимания военного ведомства, не принимавшего его в расчеты строительства вооруженных сил.
С учетом пробела в официальной документации исключительно важное значение для содержательного раскрытия темы имели документы Комиссии по истории Великой Отечественной войны при Академии наук СССР под руководством член-корреспондента, впоследствии академика И.И. Минца (далее – комиссия Минца). В материалах комиссии, созданной первоначально для сбора материалов по истории Московской битвы, но проработавшей затем до конца войны на разных фронтах, отложились сотни дел, отражающих усилия районных комитетов партии, райисполкомов, военкоматов, промышленных предприятий и учреждений по формированию и боевой деятельности дивизий ополчения, истребительных батальонов, отрядов истребителей танков, коммунистических отрядов, казачьих и национальных дивизий – всех тех военных и военизированных формирований, которые в той или иной мере можно отнести к добровольческим. Частично эти материалы опубликованы в различных сборниках документов[62]. Основную массу материалов комиссии Минца можно отнести к категории эго-документов, среди которых наиболее заметную часть занимают изложенные в форме монологов интервью партийных функционеров и советских должностных лиц, командного, политического и рядового состава добровольческих формирований. Кроме того, в фонде комиссии россыпью хранятся разнообразные делопроизводственные документы районного масштаба, относящиеся к ополчению; материалы самих формирований (приказы, списки личного состава, отчеты, статистические материалы); документы предприятий, учреждений и заведений, делегировавших добровольцев в ополчение.
Материалы комиссии академика И.И. Минца ценны не только «живой» памятью об ополчении с минимальной временной аберрацией (подавляющая масса бесед и воспоминаний относится к периоду с начала 1942 по 1947 г.), но и большим количеством однородного свидетельского нарратива (все интервью велись по единому опроснику). Он позволяет сформулировать обобщенный взгляд на различные этапы и элементы процесса формирования дивизий: подбор и запись ополченцев; роль различных инстанций и институтов (партийных, советских, военных, производственных) в формировании добровольческих частей; их организация и боевая подготовка; критерии и механизмы отбраковки и отсева добровольцев и т. д. Материалы интервью подвергались первичной обработке сотрудниками комиссии, сводившими стенограмму беседы к монологу интервьюируемого лица. В таком виде они и отложились в фондах Научного архива ИРИ РАН. Следов цензуры текстов не заметно, однако безусловно чувствуется самоцензура участников бесед. Работа историков комиссии Минца охватила различные участки фронта и разные периоды войны неравномерно. Московская битва и московские военизированные формирования отражены в фондах комиссии Минца наиболее полно, поскольку комиссия первоначально была создана именно для освещения этой битвы. Также в книге использованы материалы комиссии о боях за Сталинград, Ленинград и другие города.
Миссию коллектива историков под руководством академика Минца по сбережению индивидуальной памяти о войне в настоящее время продолжают информационные ресурсы в сети Интернет, аккумулирующие воспоминания ветеранов. Среди наиболее значимых проектов, материалы которых привлекались при написании этой книги, следует отметить портал фонда «Я помню», содержащий многотысячный массив интервью с ветеранами, взятых в последние десятилетия[63]. К сожалению, в последние годы этот поток почти иссяк. Среди ветеранов встречаются особенно интересовавшие меня добровольцы и ополченцы. Несмотря на большой временной промежуток, стерший из памяти многие детали, воспоминания ветеранов представляют огромный интерес. Интервьюер наводящими вопросами помогал ветеранам. В итоге выходили весьма откровенные беседы, чего не могли себе позволить бойцы и командиры, интервьюируемые сотрудниками комиссии Минца.
Обзор литературы и источников показал, что существенный аспект отечественной военной истории остается недостаточно изученным. Эти обстоятельства определяют научную актуальность и востребованность темы данной монографии.
Приношу слова искренней благодарности рецензентам: генерал-майору в отставке Владимиру Ивановичу Каримову – за неизменный интерес к моим изысканиям и крайне важные советы военного профессионала-генштабиста; видным специалистам в области изучения советских институтов власти доктору исторических наук, профессору Виктору Николаевичу Данилову и доктору исторических наук Федору Леонидовичу Синицыну – за ценные замечания к рукописи книги; хранителю сокровищ комиссии академика И.И. Минца в Научном архиве Института российской истории РАН Константину Сергеевичу Дроздову – за полный доступ к необходимым документам и важную методическую помощь; сотрудникам издательства «Центрполиграф» Юрию Геннадиевичу Клименко, Максиму Сергеевичу Исакову и Евгению Сергеевичу Родионову – за терпение и высокий профессионализм.
Часть первая
Гражданская война и межвоенный период
От рабочей гвардии к регулярной армии
Комплектование Красной армии рядовым и младшим командным (начальствующим) составом в период Гражданской войны в России осуществлялось в ситуации, когда сама армия молодой Советской республики только создавалась. Заново строились центральные и местные органы военного управления, отвечавшие за учет людских ресурсов и комплектование вооруженных сил; формировалась соответствующая нормативная база. Отсутствие в первое время законодательства, регулировавшего военную службу граждан, налаженных институтов учета и комплектования войск, а также неразвитость и слабость органов власти на местах определили то обстоятельство, что первоначально комплектование армии могло осуществляться только на добровольных началах. Первый этап строительства РККА (до июня 1918 г.) – единственный период в истории отечественных вооруженных сил, когда они комплектовались только добровольцами. В дальнейшем добровольчество не исчезло, выполняя вспомогательную роль по отношению к обязательной военной службе. Добровольчество периода Гражданской войны в России – крайне интересный опыт комплектования армии, который заслуживает научного анализа.
Большевистская революция, свершившаяся в России в октябре 1917 г., разрушила вековые устои российской государственности и отразилась на деятельности всех общественных институтов. Она повлияла на принципы и формы строительства вооруженных сил, в том числе и на один из главных элементов этого процесса – комплектование вооруженных сил личным составом. Вопрос о добровольном комплектовании был одним из краеугольных камней идеологии строительства армии нового типа.
Еще задолго до Октябрьской революции левые лидеры ясно отдавали себе отчет в том, что планируемое ими пролетарское государство придется защищать с оружием в руках. Они руководствовались марксистским положением о замене постоянной армии вооруженным народом, включенным в программу РСДРП, принятой II съездом партии в 1903 г.[64], а до этого впервые сформулированным в программном «Манифесте Коммунистической партии» (1848). В.И. Ленин считал межклассовую гражданскую войну неизбежной стадией общественного развития между капиталистическим общественно-экономическим строем и социалистическим: «Мы вполне признаем законность, прогрессивность и необходимость гражданских войн, – писал он в работе «Социализм и война» (1915). – То есть, войн угнетенного класса против угнетающего, рабов против рабовладельцев, крепостных крестьян против помещиков, наемных рабочих против буржуазии»[65].
Основанная на угнетении, старая армия должна была быть революционизирована, то есть перестроена на новых началах, или же вовсе создана заново. В любом случае нужно было привести ее в соответствие с определенным принципами. Ни Ленин, ни его соратники, происходившие либо из пролетарской, либо из разночинно-интеллигентской среды, не обладали практическими навыками в военном деле и уж тем более – не имели твердых представлений о путях военного строительства. Однако они обозначили четкие идеологические рамки для революционной армии.
Ленин исходил в своих взглядах на армию нового типа прежде всего из политических задач своей партии. Еще в 1905 г. он определял облик революционной армии следующим образом: она должна представлять собой военную силу революционного народа (но не народа вообще), которая состоит из: 1) вооруженного пролетариата и крестьянства;
2) организованных передовых отрядов и боевых дружин из представителей рабочих и революционного крестьянства; 3) граждан, готовых перейти на сторону народа из частей старой армии и флота. «Взятое все вместе и составляет революционную армию», – заключал Ленин[66].
Придя к власти, большевики на практике испробовали все три намеченных Лениным подхода к строительству революционной армии (соответственно, они воплотились в Красной гвардии, Красной армии и в попытке «переформатировать» старую армию), но остановились в конце концов на первом из них.
Способ комплектования войск людьми имел важнейшее значение при определении путей строительства новой революционной армии, поскольку уставшее от изнурительной войны, социальных и экономических неурядиц российское население не хотело больше воевать. Требование немедленного выхода России из войны стало одним из главных лозунгов, позволивших большевикам захватить власть.
В таких условиях расчет можно было строить только на граждан, сознательно и добровольно берущих в руки оружие для защиты революции. Именно эти принципы закладывались в организацию Красной гвардии – вооруженных отрядов большевистской партии, комплектовавшихся политически мотивированными добровольцами-большевиками и им сочувствовавшими гражданами. Красная гвардия развивалась параллельно с попытками реорганизовать старую армию. Красногвардейские отряды стали формироваться по инициативе большевистских ячеек в рабочей среде российских городов вскоре после Февральской революции 1917 г. В дооктябрьский период в ряды красногвардейских отрядов принимались добровольцы с обязательной рекомендацией партийных, профсоюзных организаций, фабрично-заводских комитетов[67].
После Октябрьской революции красногвардейцы как боевой отряд промышленного пролетариата представлялись большевикам более ценной военной силой, чем солдатская масса, и в военном отношении, и, что главное, в политическом. Тем более что на выборах в Учредительное собрание, состоявшихся 12 (25) ноября 1917 г., далеко не на всех фронтах большевики одержали победу, проиграв другим социалистическим партиям. «Учтите, пожалуйста, что солдаты солдатами, но больше всего мы в своей борьбе должны рассчитывать на рабочих», – говорил В.И. Ленин в беседе с одним из организаторов Красной гвардии Н.И. Подвойским.
Оценки численности Красной гвардии, которые делали советские историки, существенно расходятся – от нескольких десятков тысяч человек до 182,5 тыс. человек[68]. И причина здесь не в недобросовестности историков, а в самой сущности добровольного типа комплектования, располагавшего к текучести кадров, непостоянству состава отрядов. Только в столицах Красная гвардия была достаточно организована и имела объединяющие штабы. В Петрограде насчитывалось приблизительно 10–12 тыс. человек, которые были вооружены и сведены в отряды, в Москве – 3–4 тыс. человек[69].
Однако в полноценную армию Красная гвардия не выросла. Красногвардейские отряды были органично связаны с заводами и фабриками, которые делегировали своих рабочих. Рабочие не оставляли своих рабочих мест у станка, а лишь на время занимали свое место в строю Красной гвардии. Это обстоятельство накрепко привязывало отряды к предприятиям и городским районам. Этому же способствовало отсутствие у них тыловых служб. В малых городах и в сельской местности, где красногвардейские отряды тоже создавались, они привязывались не столько к предприятиям, сколько к месту жительства бойцов, представляя собой вооруженный народ (милицию). Элемент военной организации, дисциплины и военного профессионализма был вторичен. Красногвардейские отряды сложно было объединить, централизованно пополнять, переформировывать, управлять ими в бою, маневрировать ими и проч., то есть распоряжаться как единым военным организмом, решая общие задачи оперативно-стратегического масштаба. Отдельные случаи маневра красногвардейскими отрядами, их переброски на удаленные от мест формирования фронты известны (бои петроградской гвардии в Финляндии, против Каледина на Дону, бои с немцами под Нарвой и Псковом и т. д.), однако в целом это были скорее исключения. Участвуя в основном в поддержании правопорядка в родном городе или уезде, красногвардейцы не готовы были к участию в активных боевых действиях, тем более за пределами места проживания. Добровольность участия предоставляла им возможность покинуть отряд. В этом отношении красногвардейское движение в какой-то степени родственно партизанскому, тоже чрезвычайно привязанному к малой родине.
Важно отметить и то, что в отсутствие сил правопорядка, многочисленные заботы по поддержанию общественной безопасности (несение караульной службы, патрулирование, охрана промышленных объектов, производство обысков и многое другое) ложились на плечи красногвардейцев. В этом смысле Красная гвардия эволюционировала не в сторону армии, а в сторону местной милиции. Партизанщина и милиционность, таким образом, стали основными тенденциями развития Красной гвардии.
Хотя Красная гвардия в первый период становления советской власти в России стала важнейшей ее опорой, ясное осознание того, что для защиты Советского государства нужна постоянная армия, организуемая на единых началах, пришло большевистскому руководству уже в декабре 1917 г. Эта идея была выдвинута 23 декабря 1917 г. (5 января 1918 г.) на экстренном заседании представителей Наркомвоена, Всероссийского бюро фронтовых и тыловых организаций при ЦК РСДРП(б) и Главного штаба Красной гвардии[70]. На заседании председательствовал наркомвоен Н.И. Подвойский, секретарем был член Военной организации при ЦК РСДРП(б) Ф.П. Никонов.
Бессменный руководитель Военной организации при ЦК РСДРП(б), так называемой «военки», Н.И. Подвойский и его соратники по «военке» (В.И. Невский, К.А. Мехоношин, М.С. Кедров, П.Е. Дыбенко, Н.В. Крыленко и др.) в этот период в значительной мере формулировали облик будущей армии, являлись идейными его вдохновителями. Придерживаясь крайне левых взглядов и веря в близость и неизбежность мировой революции, они были склонны к переоценке революционного порыва масс и упрощенному взгляду на военное строительство как на «всеобщее вооружение народа» с выборным командованием и добровольной дисциплиной.
Первоначально, в первые недели после Октябрьской революции большевики вполне допускали перестройку и революционизацию старой армии. Казалось, что ее штыки лишь требовалось развернуть против российских и иностранных капиталистов. Это сделало бы революционную Россию «во много раз более сильной и в военном отношении»[71]. Одной из главных опор такой перестройки армии виделся добровольный принцип комплектования армии. 18 (31) декабря 1917 г. резолюция Совнаркома РСФСР предусматривала принятие «усиленных мер по реорганизации армии при сокращении ее состава и усилении обороноспособности»[72]. 22 декабря 1917 г. (3 января 1918 г.) на коллегии Наркомвоена предлагалось «произвести набор добровольцев из Красной гвардии численностью до 300 000 [человек] и двинуть их на фронт как цемент для разлагающихся частей, перемешав их предварительно с добровольцами-солдатами и матросами»[73]. 26 декабря 1917 г. (7 января 1918 г.) вопрос о создании «социалистической армии» обсуждался на собрании Военной организации при ЦК РСДРП(б). Выступивший на собрании наркомвоен Н.И. Подвойский был настроен очень оптимистично, вновь высказав мысль, что всего «за полтора месяца можно создать 300 000 штыков социалистической армии, которые послужат… цементом и скелетом для новой армии»[74].
Достаточно длительное время идея «перемешивания» остатков старой армии с добровольцами казалась многим большевистским руководителям панацеей, единственно возможным решением в той критической ситуации. Комплектование новой армии также мыслилось очень упрощенно: считалось, что для развертывания добровольной записи в Красную армию достаточно будет организовать в полках и на заводах большевистские ячейки там, где их еще не было, и усилить пропаганду «до самых низов»[75].
Определяя в этот первый период социальную базу новой армии, большевистское руководство рассчитывало на две наиболее революционизированные социальные группы – солдатские массы и пролетариат. На пролетариат оно возлагало главные надежды, считая его «лучшим материалом для комплектования армии», ибо промышленные рабочие, закалившись в классовой борьбе на предприятии и полностью осознав свои классовые интересы, по убеждению наркомвоена Н.И. Подвойского, «более организованны, сознательны и в настоящее время представляют кадры безработных»[76]. Последнее обстоятельство (остановка промышленности и вызванная этим безработица) стало важным социальным фактором, подпитывавшим добровольчество не только в промышленных центрах, но и в провинции, куда из городов, спасаясь от голода, возвращались рабочие. Установлено, что только из Петрограда в родные деревни убыло около 300 тыс. рабочих[77]. Подвойский в целом правильно оценил масштаб безработицы, когда, в начале января 1918 г., накануне принятия декрета о создании Красной армии на совещании фронтовых делегатов III съезда Советов рассчитывал на 125 тыс. безработных, «которые выкинуты за борт в Петрограде… и в Москве то же самое»[78].
Другим источником пополнения социалистической армии добровольцами могла стать солдатская масса старой армии. Солдаты переходили на сторону большевиков как индивидуально, так и группами и даже целыми частями и соединениями. Например, 39-я пехотная дивизия Кавказского фронта, 81-я пехотная дивизия Северного фронта и ряд других частей и соединений приняли советскую власть[79]. Это происходило и на фронте, и в тылу. Однако революционный энтузиазм солдатской массы нельзя переоценивать. Господствующим ее настроением было демобилизационное. Солдаты разъезжались по домам, оставаясь в массе своей равнодушными к происходящим революционным событиям. На миллионных по численности фронтах количество записавшихся в большевистскую армию ограничивалось тысячами человек[80].
Идеологически перед большевистским руководством стояла сложнейшая дилемма: как отстоять свою власть и построить новую армию и флот, если общепринятые принципы строительства вооруженных сил на основе правильной организации и обязательной военной службы принципиально отвергнуты? Революционная марксистская доктрина, помноженная на полное отсутствие у большевиков опыта государственного и военного строительства, порождали необоснованные и упрощенные представления о порядке формирования, комплектования и боевого применения вооруженных сил. В значительной мере она опиралась на эксперименты в области организационной структуры Красной гвардии. На это в конце января 1918 г. прямо указывал в своем докладе в СНК Верховный главнокомандующий Н.В. Крыленко: в первых столкновениях Гражданской войны, а также на «внешнем фронте» в ноябре – декабре 1917 г. именно красногвардейские отряды проявили себя наиболее боеспособными[81].
Поэтому неудивительно, что первоначальный проект Красной армии в целом следовал красногвардейскому опыту. Создание новой армии – «революционно-стойкой, последовательной в борьбе, лишениях и в своем идеализме»[82] – мыслилось на началах классового подхода и добровольности. Старый большевик С.И. Гусев (Драбкин), один из тех, кто стоял у самых истоков формирования частей Красной армии в Петрограде, в апреле 1918 года писал, что отныне «между армией и народом нет границы… армия и народ совпадают… Советская армия представляет собой вооруженный рабоче-крестьянский народ»[83]. «Местный военный отряд» волости, уезда, завода и фабрики и образует собой первичную военную организацию по типу первичных партийных ячеек. Преимущество такого отряда, по мнению Гусева, в том, что здесь «каждый солдат известен со всех сторон. Изучен с детства его товарищами „до последней косточки“, и отряд сумеет каждого солдата поставить на свое место и наилучшим образом использовать его способности»[84]. Из этих отрядов, по мнению Гусева, складывается армия нового типа, в целом являющаяся синкретичным военным, социальным и политическим организмом. Сознательное добровольное подчинение и дисциплина, выборность командиров дают «крепчайший цемент товарищеской внутренней спайки»[85]. Гусев подчеркивал сознательность и добровольность дисциплины, организации, исполнения приказов и, конечно, самого комплектования армии: «Никакими приказами сверху… никакими самыми строгими предписаниями не собрать ни единого советского отряда», – убежден он[86].
Таким образом, идеологически во главе угла стоял расчет большевиков на проявление классовой сознательности трудящихся, их добровольного желания взять в руки оружие для защиты революции. «Хочешь, добровольно возьми на себя обязанности, добровольно согласись подчиниться известному разумному порядку… Не понравилось тебе – через полгода можешь уволиться», – зазывали агитаторы[87].