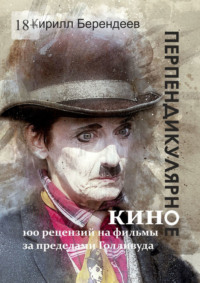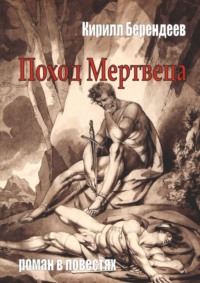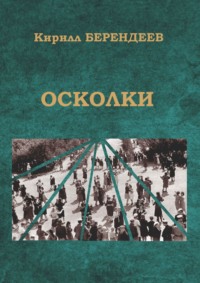Полная версия
Звездный водоем
Государь попытался что-то сказать, но горло сдавило сознанием немыслимости произносимого монахом, и он замолчал. Смотрел на стоящего перед ним, желваки играли, глаза выкатывались из орбит.
– Сама вселенная родилась из расхождения величайших ее сил, – продолжал брат Ханепет. – Вначале обрелось время, оно, подобно волне, объяло вселенную, и родило пространство, в котором, от единения этих двух великих сил, появилась материя. И тогда уже, время, окончательно разделяя пространство и материю, создало свет и отделило от него тьму. Я бы назвал ее хаосом, ибо в тьме рождается не только звезды, но она предсказывает закат всего сущего. Но вначале материя представляла собой всего лишь ничтожные частицы, столь мелкие, что ум мой не мог их определить, столь могущественные, что они, даже нерожденные, уже могли взаимодействовать между собой, порождая тьму и свет, а после пыль – из которой уже рождались звезды и их планеты.
– Как же можно объять столь ничтожное и столь великое? – все же решил спросить государь. Монах покачал головой.
– Никак, понтифик. Я и не объял, загадкой для меня осталась суть мельчайших частиц, из которых составилось все сущее во вселенной. Я и сейчас не знаю их гармонии, ведаю лишь то, что видел, – и вернулся к повествованию.
– А далее творение продолжалось. Многие тысячи тысячищ лет ушло на то, чтоб по вселенной разнеслась пыль, чтоб появились звезды, чтоб они погасли, а них месте явились новые сияющие гиганты и тусклые карлики, живущие мириады лет или сотни тысяч. Звезды рождались, сходились, удалялись, сплетаясь меж собой в скопления, в спирали. И чем дольше жила вселенная, тем больше в ней становилось звезд, и тем больше она раздвигала свои пределы. Она и сейчас это делает, и с той же скоростью, что и прежде, в давнопрошедшие времена. Я не могу постичь ее, но если бы даже она не расширялась более, то первый отблеск рожденной звезды на одном ее краю, достиг бы другого края настолько поздно, что сама звезда успела бы погаснуть, родить новую звезду, и та, вспыхнув, успела бы исчерпать свой предел жизни. Немыслимо много.
– Немыслимо, – повторил государь. – Но как ты понял это?
– Лишь внутренним зрением и через подобия. Немыслимо самому разглядеть столь великие величины, не потеряв рассудок, а потому я постигал красоту, гармонию и величие вселенной через крохотный свой разум, через вот такое понимание, доступное разуму. Мощь вселенной обрушилась на меня, придавила и распластала – там, в пещере, и я лишь смог описать основные ее законы. И познать, что и те изменяются в зависимости от того, где они расположены, в самом центре ее, ближе к окраинам или в дальних пределах, где вселенная еще продолжает немыслимо стремительно раздвигать границы. Но даже эти вроде бы разные законы, все одно, имеют под собой первооснову, и все они гармонично исходят от нее через простые сопряжения сил, известных тебе, великий брат мой.
– Но сколь же велика вселенная? Сколько всего звезд в ней? – спросил, спустя некоторое время, государь. Расстояние, измеренное движением света ничего не сказало ему. Тогда брат Ханепет продолжил:
– Немыслимо, понтифик. Представь себе нашу звезду, вокруг которой вращаются планеты. Теперь скопление их, где звезд многие сотни тысяч. Теперь спираль, где скоплений таких без меры, а счет звезд идет на сотни тысячищ, ежели не более. А теперь представь, что спирали эти образуют как бы великие канаты, простирающиеся в невообразимые дали. Являясь клетками этих канатов, они вроде и не сопрягаются друг с другом, но подчиняясь общему закону, образуют, если смотреть издалека, нечто общее, подобно тому, как песчинки невообразимым множеством своим создают величественную дюну. Тысячи тысячищ спиралей образуют такие канаты, а те, в свою очередь, столь же великим числом создают сплетения канатов, образуя еще более великие соединения, простирающиеся из конца в конец самой вселенной.
Он помолчал немного и продолжил, видя, насколько потрясен сказанным правитель.
– Я потому не успел узреть величие рода людского, что мне явилось могущество иного порядка. В нем наш род, мы все, планета наша, звезда или спираль оказывается столь ничтожным составляющим, которым попросту можно пренебречь, дабы иметь возможность узреть красоту всей вселенной.
– Это немыслимо, – повторил государь слова самого брата Ханепета. Тот немедля согласился.
– Да, как и немыслимо время существования вселенной. С момента ее зарождения, вернее, с момента появления в ней времени прошло много эпох, каждая из которых насчитывает тысячи тысячищ лет. Если мерить рождениями и смертями новых звезд время вселенной, то истекло не меньше пяти эпох прежде, чем наше солнце явилось миру, на нашей планете зародилась жизнь, появился первый разум, исчез, и солнцу явился разум иной, не морской, но земной – человеческий. Мы лишь былинка, краткое мгновение в жизни вселенной. Ибо ей надлежит еще множество эпох рождений и смертей новых и новых звезд, пока она, не найдя предел и не добравшись до него, не остановится. И тогда тьма станет поглощать планеты, звезды, все сущее, сперва весь свет, а затем и всю материю во вселенной. А после сольется с самим временем в последней гармонии. И вселенная замрет навеки. Но для того, нашему мирозданию еще надлежит прожить не меньше полусотни эпох, после чего начнутся эти времена. Звезды перестанут рождаться, разрушатся, а вместо них будут гореть и сиять ничтожные частицы, звездная пыль, материя станет исчезать во тьме, а хаосу этому придется преодолеть немыслимую тысячищу тысячищ лет, чтобы охватить все мироздание…. Сама вселенная не ведает в точности, что произойдет с ней в тот миг, когда хаос поглотит время.
Государь долго молчал, потрясенный до глубины души. Затем велел брату Ханепету приблизиться и сесть рядом с ним на подушки.
– И что же это, – произнес шепотом он. – что получается… Все то, во что мы верим, все на что надеемся, все – тлен? Наша земля, наши дети, наши боги – что все это для вселенной – пыль, пустяк? Где предел понимания нашего ничтожества? Где мы, наше место – миг и не более того?
– Это не так, великий брат мой, вовсе нет. Я очистил свой разум, дабы лицезреть вселенную, и тогда она снизошла до меня. Если б ей не было дела до нас, ничтожнейших из ничтожных, разве я узрел бы все это, всю гармонию высших сфер? Я смог бы писать? Тем более сам не сознавая того. Нет, понтифик, ничего этого не пришло бы мне в голову, к чему бездушной громаде обращаться к эфемерному созданию, чей род даже она не может заметить. Я мыслю, это случилось не просто так, и мое прозрение, и десятилетие наблюдений и записи. Наш век короток, но нам даровано самое удивительное, что есть в мироздании – разум, и пусть мы незримы и недолговечны, подобно поденкам, мы способны, рано или поздно, уразуметь суть нашего великого обиталища. И, возможно, я не надеюсь, но верю в это, привнести в жизнь нашу что-то значимое, что-то, что имело бы суть и для жизни и для нас и, быть может, для звезд. Быть может, – так же тихо заметил он, наклоняясь к уху правителя, – само понимание вселенной дает нам больше, чем мы думаем. Ведь и разгадка нашего существования, существ разумных, еще только предстоит другим. Тем, кто позднее придет в пещеры, чтоб очистив разум, окунуться в великие таинства.
Государь взглянул на монаха.
– И ты веруешь в это?
– Мои мысли слабеют, я уже не вижу красоту гармонии вселенной, что лицезрел прежде. Как предутренний сон, который истаивает с первыми лучами рассвета, мой разум блекнет, возвращаясь к привычной жизни. И от созерцания бездн остаются лишь следы в памяти. Мне самому сейчас тяжело читать собственные записи, потому вся надежда на того, кто придет за мной, кто будет писать дальше, иным языком, иными символами – но дальше. Я верю, что для вселенной это важно. А стало быть, необходимо и для нас.
Он вздохнул и продолжил, чуть громче:
– Отныне я верую именно в это, великий брат мой. Возможно, ты сочтешь меня недостойным существования, а труды бредом спятившего, может, так оно и есть. Я приму любое твое слово. И я жду его. Я рассказал о вселенной все, что смог вспомнить и постичь, разум слабеет, через несколько недель, возможно, я не смогу передать и этого.
Государь кивнул. Поднялся с подушек и долго бродил по зале, меняя ее шагами взад и вперед. Монах хотел подняться следом, но правитель остановил его жестом, желая хоть так побыть наедине с мыслями – куда менее горними, чем изреченные только что. Наконец, произнес:
– Ты вернешься в монастырь, брат. И там будешь служить. Может, найдешь учеников, которые продолжат твои поиски, я даю на это тебе право, хоть и от всего сердца желаю, чтоб никто их не продолжил твоего дела, чтоб ты сам изверился и вернулся к тому, от чего уходил в пещеры. Но боюсь, – со вздохом продолжил он, – этого не случится. А потому, бог с тобой, иди. Я лишь велю писцам сделать копию твоей книги, помещу ее в самый дальний шкаф библиотеки и забуду о ней. Живи, как знаешь, брат. Но если что-то случится с тобой, с учениками твоими, прошу, не навещай с новыми прозрениями меня, ибо тогда я прикажу казнить вас всех. А теперь ступай.
Брат Ханепет склонился в поклоне, сложившись пополам, и покинул покои государя, отправившись назад, в монастырь. Через полгода он стал настоятелем, так пожелал его предшественник. Наставник Ханепет имел много учеников, коих пытался обучить прозрению, но увы, успеха не добился. Сам ли он был причиной тому или его непостижимая книга, – уже неведомо. И лишь спустя век с небольшим, новик Махор, из соседнего монастыря, тайком пробравшись в храм Солнца и ознакомившись с учением святого, отправился в пещеру на первое испытание веры, а вышел оттуда не через две недели, как полагается, но только через пятнадцать лет. И вид имел совсем иной – седой как лунь, сгорбленный, ровно клюка, голосом скрипучим, как несмазанная петля. Но взгляд его, живой и быстрый, поражал всякого, кто встречался с ним глазами.
Звездный водоем
Неприятности начались вскоре после отстыковки. Сначала перезагрузился компьютер, с ним такое случалось и на подлете, но после возвращения в строй, он неожиданно подал команду на вращение. Остановить его у нас никак не получалось, стали запрашивать Землю. После пяти минут бесплодного ковыряния в программе, оператор, посовещавшись с руководителем полетов, решил снова перезагрузить, а если и дальше продолжится, взять управление…
Не вышло. В начале торможения, мы уже кувыркались как при падении с горки. В какой-то миг система приняла верх за низ и вместо того, чтобы начать торможение, с ускорением бросила спускаемый аппарат к поверхности. Будто желая раз и навсегда покончить с нами.
Торможение перешло в баллистическое сваливание, от перегрузок в глазах поплыли кровавые пятна, а затем на грудь шлепнулся слон. Я отключился, еще когда в иллюминаторе полыхало ярко-желтое пламя. Последняя мысль была: «сработает ли парашют, или как тогда, у Комарова»…
Парашют сработал. Где-то на пороге восприятия я услышал хлопок, почувствовал дрожь. Нас с силой дернуло, перед внутренним взором снова поплыли круги. Я слышал, как застонал потом надсадно закашлялся Серега. Сил поднять руки не осталось, связь заработала, но нажать кнопку отключившегося микрофона не смогли.
Потом долгожданный хлопок посадочных двигателей, окончательно замедляющих капсулу, и тут же удар о землю. Почти незаметный. Или я снова отключился? Уже не поймешь. Потом… точно помню, как мы перекатились на бок и некоторое время скользили, снова качение, еще и наконец, удар.
Все, прибыли.
– Земля, – пузыря слюной и едва шевеля губами, произнес я. После снова пробел; очнулся когда Серега тряс за рукав. Он сумел отстегнуться и пытался включить микрофон. Кажется, при посадке компьютер сдох окончательно.
Выбраться мы смогли часа через два, если не больше. Голова горела огнем, в груди что-то клокотало. Кажется, повредил ребро или два. Каким-то чудом нам удалось открутить замок шлюза. Затем, отдышавшись снова, выползти наружу, поддерживая друг друга. После такого спуска ноги еле ходили, а голова казалась совершенно пустой – еще и вся кровь после полугода невесомости прилила к конечностям, на которые теперь не встанешь, больно. Или и там что-то не в порядке?
Выбравшись, подали сигнал, запалили дымы. Серега долго отхаркивался кровью, потом, оглядевшись, спросил меня, куда это нас занесло, только заснеженные горы кругом да редкий лесок в ложбинах. И жирная черная полоса, тянущаяся от капсулы до вершины пологого холма. Где степь? Я только плечами пожал, наверное, недолетели или проскочили. По баллистической траектории спускались, теперь разбери, куда занесло.
Ближе к ночи начало холодать, с мутного, низкого неба пошел снег. Зачем-то захотелось поймать снежинку языком. Дурацкое желание, пока я осуществлял его, Серега развел сигнальный костер. Снова отдыхал, привалившись к черному боку «Союза». А я стоял рядом, не глядя на пламя, вдыхал чистый, не процеженный кондиционером воздух, разглядывая сопки, поросшие жидким осинником. Мыслей не осталось, только желание дождаться помощи и еще странное – добраться вон до того озерца, что в километре отсюда, посидеть на бережку, на лишенном коры стволе. Выбраться из скафандра, невыносимо стеснявшего движения, снять все себя и дойти.
– Ты мерзнешь, – произнес Сергей, притягивая к костру. – Подвигайся или сядь уже к огню. Куда тебя все время тянет?
Я и сам не мог ответить на этот вопрос. Наконец, вернулся мыслями к товарищу, присел на ветки. Сергей стал что-то рассказывать, я плохо слышал и слушал. Думалось про озеро. Непонятно, почему.
Под ночь, когда немного развиднелось, над нами пролетел вертолет. Через полчаса еще раз, а затем до нас, наконец, добрались спасатели. Укутали в шерстяные верблюжьи одеяла, подняли на борт, напоили и накормили, оказали первую помощь. Так мы узнали, что приземлились в ста пятидесяти километрах северо-восточнее Магнитогорска, в Челябинской области. В столицу ее нас и повезли. Потом в Москву, на обследование и лечение, потом…
Жена почти не отходила от постели, будто ухаживала за тяжелораненым. Приносила еду, кормила с ложечки, выключала телевизор, если я слишком долго засматривался новостями и иногда только, когда считала, что я уже могу дышать и говорить спокойно, что боли отошли, просила:
– Ты больше ни ногой, слышишь меня? Ни ногой обратно.
– Я же и так в ЦУП собирался, – возражал я, она не слушала.
– Никакого Центра. Вообще никакого космоса. Я даже на самолете не дам тебе летать. Будешь заниматься преподаванием, как Сергей. И так что ни полет, то приключение. Сколько раз давали тебе знаки свыше, ты упрямился, давали, не слышал. Теперь-то понял?
Я кивал, слушая ее, кивал, как механический болванчик, прижимал к себе, к незажившей груди, она осторожно освобождалась, поправляя одеяло, целовала, но тут же сама обнимала тихонько. Шептала что-то, будто старалась избыть из меня происшедшее.
Приходил сын, вот с ним можно было поговорить обо всем. Он долго рассказывал про наш полет, вернее, падение. Газеты только о том и писали. Собралась комиссия, расследует причины. Руководителя полетов вызвал на ковер министр, разносил в пух и прах, наверное, уволит. Бать, а ты стал знаменитостью, не просто как космонавт. Вошел в «клуб двадцати» – тех, кто пережил ускорение в двадцать «же». Таких всего ничего. Комаров на первом «Союзе», Лазарев и Макаров на восемнадцатом и вот теперь, Сергей и ты.
– Комаров же разбился, чего его приплетать, – я недовольно скривился. И так поминал его перед посадкой, дожидаясь хлопка и долгожданной приостановки падения. – Ты мне лучше скажи, когда женишься. Тридцатник мужику, а все ходит холостым.
– Бать, мне и первого раза за глаза хватило, – и потом, будто спохватившись. – А ты и вправду, завязывал бы летать, тоже уже возраст.
Механически он обернулся в сторону входа, я все понял. Вздохнул, услышав шаги. Ну конечно, Римма. Жена вошла на цыпочках, спросила как я, отдыхаю ли. Узнав, что еще не заснул, прошептала разведанное у врачей. Послезавтра выписывают. А через день, в пятницу как раз, мы махнем домой. Совсем домой, в нашу хату на краю города. Сейчас там тепло, май в самом разгаре, все цветет, красота, не наглядишься, запахи голову кружат. Пионы закраснели, ты ведь их очень любишь, а скоро пойдут настурции. Твой любимый салат из свежих листьев приготовлю, будем сидеть на крылечке, как раньше, и слушать птиц. Соловьи заливаются.
– Наверное, в речке уже купаться можно.
– Да, вода теплая, но… куда ж тебе сейчас. Даже не думай.
– Я вспоминаю.
– Только в конце месяца.
– Оболтус, ты с нами или просто отпросился на «пару дней» у доверчивой начальницы? – сын улыбнулся, покивал. Конечно, после такого случая с батей, ему еще долго все будут прощать и сносить. Главное, чтоб не зарывался, он такой, только дай ему слабину, сразу сядет на шею. Сколько помню, такой. В кого, непонятно.
Жена еще раз обняла, чмокнула в щеку, вышла вместе с сыном, пожелав спокойной ночи. Я еще поворочался, подумалось, а ведь как было б хорошо сейчас в речку, а неважно, сколько там градусов, она спокойная, тихая. Подумалось и тут же исполнилось – я нырнул, махнул против течения, хорошо, легко. Жаль, только сон.
Зато на выходные вернулись домой. Римма права, у нас удивительно красиво. Не только весной, в любое время года. Когда возвращаешься с душной, шумной станции на землю, всегда тянет в такие места. Погулять, размять ноги, поплавать, походить за грибами, ягодами. Да пройтись по тропинке к заводи. Простые человеческие желания, вроде банки вишневого варенья, как всего этого не хватало там, наверху, среди звезд. Как все земное там кажется удивительным, дарующим блаженство, как в первые минуты самый воздух казахской степи ощущается наполненным амброзией, от которой кружится голова и ноздри распахиваются шире, чтоб впитать больше живительных ароматов. Как удивительны эти первые минуты, часы, дни, месяцы на земле. Как прекрасно все, видимое в это время, как возвышенно, как желанно. Одна мысль, что ты вернулся домой, забравшись в подкорку, дает успокоение. Сны, намечтанные на станции, превращаются в явь, которой не перестаешь поражаться. Ощущение дома… оно удивительно.
Первые дни я только и погружался в негу претворенных снов. С женой сидели на крыльце в старых плетеных креслах, смотрели на реку, ели варенье пили самосадный чай из кипрея или ромашки. Блаженствовали. Еще я приставал к ней, конечно, – после полугодового затворничества изводил постоянно. Она пошучивала:
– Не старайся сильно, а то еще одного оболтуса рожу.
– Я осторожно, в скафандре.
Тема космоса, даже в шутку, ей совершенно не нравилась, Римма настолько старательно обходила ее стороной, что невольно провоцировала. Потом обижалась и тотчас прощала. Тоже ведь невозможно соскучилась.
Цвели клены, каштаны, яблони, липы. Май ушел в июнь, наполнился жаром макушки лета, медленно перекатился в грозовой, ненастный июль. Я всегда любил дождь, а вот Римма, она старательно избегала грозы, уходила, когда начинало крапать, пряталась в надежном срубе, будто в крепости. Первое время я не мог присоединиться к ней, мне надлежало напитаться, напиться всем земным. Потом… июлем я стоял и смотрел в небо, уже не выискивая тучи, не дожидаясь молний. Выходил вечером, садился и поднимая голову, не мог оторваться. Небосклон затягивал омутом.
Потом начались пробежки, долгие поездки на велосипеде… нет, начались они раньше, в июне, именно тогда я достал шагомер и принялся наматывать привычные пять миль до завтрака. Римма не возражала, ей нравилось, как она сама говорила, моя «железная форма» – теперь я приводил ее в порядок, заодно ощущая собственные пределы, постепенно доводя нагрузки до максимальных, проверяя все ли в порядке.
Затем начал ездить на велосипеде за город, по часу или больше проводил с гантелями, крутил «солнышко» на турнике. А по вечерам любовался звездами, небо в эти дни будто вымыли и отчистили от пыли – звезды полыхали так ярко, что я разглядывал отдельные искорки в Плеядах, улыбался про себя и что-то говорил выходившей супруге. Она недовольно хмурилась, но потом присоединялась, стараясь разговорами заглушить во мне эти самые прогулки под звездами. На этот раз – уж точно.
В августе зачастил оболтус, правда, только на выходные. Малина ему обломилась, начальница заставила работать, теперь отпуска он до октября не дождется. А ему так хотелось приехать на пару недель, порыбачить. Римма жалела его, кормила на убой и обещала, если что, похлопотать, подергать старые ниточки.
– Бать, я лучше тебя попрошу. Ты ведь авторитетней. О тебе до сих пор в газетах пишут. Мол, рукопожатие крепкое, – да были тут журналисты, задавали однообразные вопросы, для самого настырного это крепкое рукопожатие оказалось единственным, что он смог узнать от меня.
– И только?
– Нет, еще полеты возобновились. Ты ж своим падением сбил график отправки экипажей на полгода.
– Руководителя ЦУПа хоть не отстранили.
– А лучше бы, – вмешалась Римма. – Это он за кораблем не уследил.
Сын с матерью заспорили, а я незаметно для себя отключился, размышляя о своем.
Осень пришла дождями, снулыми, стылыми. Как-то быстро похолодало, бабье лето мелькнуло и ушло, не простившись. Небо закрыло неподвижными тучами на недели, кажется, даже на месяц. Звезды сквозь него виделись только мне.
Потом приснился первый старт. Римма права, с первого же раза у меня все не как у всех – сначала запуск перенесли на сутки из-за неполадок в ракете, наутро следующего дня зарядил мелкий дождичек. Когда автобус, везший нас на площадку номер три, остановился, чтоб мы сходили «на колесо» перед запуском – делать все пришлось очень шустро. Часом позже, под вспышки блицев, рапортовали главному о готовности к полету, а затем поднимались по скользкой металлической лестнице до лифта. Помню, чуть не брякнулся, пока забирался на эту круть. И долго стоял на площадке, махая операторам и фотографам, очень хотелось, чтоб в этот момент семья видела меня на экранах, чтоб прямая трансляция не прервалась, чтоб они успели пожелать всего, а я бы вернулся. Удивительно, но тогда уже думалось о прибытии. Как будто все успел увидеть и перечувствовать.
Днями позже, вернувшись с велосипедной прогулки под крапавшим дождичком, вместе с влажным дождевиком принес жене давно вызревавшее: завтра уезжаю в Москву. Нет, в ЦУП проситься не буду, хочу поговорить с Павлом Николаевичем. Римма вздрогнула, как от удара. Нет, она ждала этого, предчувствовала, понимала, ведь третий раз, но и не верила, не хотела – после всего происшедшего. После безумного спуска и долгих поисков на Урале. Сергей и тот утихомирился, когда приезжал, говорил, скоро станет преподавать аспирантам, и вообще займется собственными хвостами. Хочет дожать докторскую, давно над ней сидит. Я тогда смотрел на него и не узнавал командира. Будто не он говорит, будто слова в его уста вложены Риммой. Говорили в тот раз недолго, попрощались сухо. Наверное. Еще и это подействовало. Вкупе с небесным омутом.
– Хоть бы он с тобой и разговаривать не стал. Хоть бы его не застал. Хоть бы… только, пожалуйста, вернись. Обещаешь?
– А куда я денусь. После такого…
– Нет, ты мне скажи.
– Обещаю.
Руководитель Центра подготовки тоже встретил неласково. Ему как раз прочистили уши на встрече на высшем уровне, так что и меня он встретил не сразу, и встречу дважды переносил, будто добиваясь того же, чего и супружница. Вот только я оказался настойчивей. Поймал его в холле центрального входа, возле панно. Деваться оказалось некуда, он долго молча слушал. Потом покачал головой.
– Ты хоть понимаешь, чего просишь? Сам подумай, полгода как брякнулся с орбиты, три недели лежмя лежал. В «клуб двадцать» записали, что это не причина для отказа? А теперь опять на программу собрался. Тебя ж медицина еще до конца не исследовала.
– Я летом диспансеризацию прошел.
– У нас тут, сам знаешь, что происходит. Вон на следующем «Союзе» две дюжины неполадок нашли. И это только при первых испытаниях.
– Я привык к неполадкам в каждом полете.
– И потом, Сергей, он ведь нормальный, отказался от всего, пошел преподавать.
– Я не такой.
– Да, это точно. Упертый, хоть ты что. Хочешь, чтоб тебя первая же центрифуга размазала?
– Пока тебя дожидался, Пал Николаич, меня покрутили на пятнадцати «же».
– Тебе пятьдесят четыре.
– Еще только в декабре стукнет.
– И сколько ждать думаешь?
– Сколько потребуется. Некоторые и в шестьдесят пять летали.
Он снова разглядывал. Потом махнул рукой.
– Это ж сопровождающие туристов. Тоже на неделю собрался? – Я покачал головой. – Вот, все вы такие. Хотя… у меня молодежи совсем нет, не идут. Или отваливаются как перепившие клещи. Черт, что за сравнения сегодня лезут. Моложе тридцати всего двое и те девчонки, – понял, что снова не то ляпнул, мотнул головой. Глянул пристально, оценивая, будто на весах взвешивал. – Правда, будешь ждать?