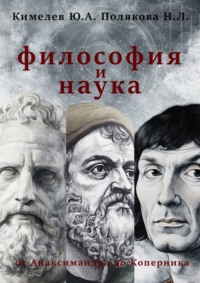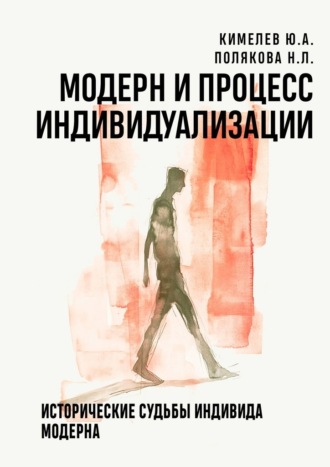
Полная версия
Модерн и процесс индивидуализации. Исторические судьбы индивида модерна
Стартовым моментом выступает процесс индивидуализации, который предстает как процесс духовного, познавательного и эмоционального самоосуществления индивида, но всегда и сразу же в социальной форме, и чаще всего первоначально в форме конфликта и конкуренции.
Социальной формой индивидуализации является дифференциация. Развитие на социальном уровне предстает как процесс усложнения и увеличения социальных образований и форм, как прогрессивная дифференциация (социальная форма индивидуализации) элементов, в том числе и в форме стратификационного расслоения. Зиммель фиксирует, что стоит только образоваться какому-либо новому объединению, как оно сразу же создает внутри себя неравенство, которое также является формой индивидуализации. Кроме индивидуализирующей групповой дифференциациии создания соответствующих социальных форм, Зиммель указывает на пространственное расширениеи создание соответствующих дифференцированных пространственных порядков общества.
Индивидуализация и дифференциация как ее социальная форма ослабляют связь – реальную и идеальную – с более дальними, создают новые группы и круги общения. Но одновременно с этим дифференциация выступает в качестве механизма, удерживающего общество в его целостности. Историческое развитие, ведомое процессом самоосуществления индивида, движется, по Зиммелю, в направлении распада мелких групп и расширения форм ассоциации. А там, где образуется большое целое, там встречается одновременно так много тенденций, влечений и интересов, что единство целого, его существование как такового давно было бы утрачено, если бы дифференциация не распределяла то, что по существу индивидуализировано и различно, между различными индивидами, институтами и группами.
Именно в этом своем качестве удержания целого механизм дифференциации порождает противоположный процесс – процесс группообразования как тенденцию к недифференцированности. В процессе группообразования дифференциация, основанная на процессе индивидуализации, выступает в форме разделения труда, а сам процесс индивидуализации – в форме функционализации и порождает группу как функциональное тождество или функциональное единство. Зиммель указывает на известную парадоксальность ситуации – индивидуализация является основой функционализации и порождает социальное единство. И тем не менее факт налицо: дифференциация, которая является социальной формой индивидуализации и разделения, в действительности очень часто представляет собой начало примиряющее и сближающее, и именно потому сберегающее силы духа, который оперирует этим принципом теоретически или практически.
Социальное развитие выстраивается как становление все более и более сложных форм разделения труда, подчиненных закону экономии сил. Углубление процесса разделения труда служит возвышению культуры, поскольку приводит к формированию «сущностно различных» личностей и их деятельностей в форме профессий и формирования системы профессионального труда. В рамках системы разделения труда создаются основные социальные институты и сферы деятельности. Они формируются в результате передачи соответствующих функций и деятельностей личностей этим институтам и воплощаются в социальных формах.
Развитие осуществляется по спирали: высокодифференцированное целое сопряжено с высокоразвитым индивидом, способным выполнять различные функции. «Спираль развития достигает здесь той точки, которая расположена как раз над исходным пунктом: на этой высоте развития индивид относится к целому точно так же, как и в примитивном состоянии, с тем различием, что тогда обе стороны были не дифференцированы, а теперь они дифференцированы». Индивид, нашедший и сформировавший в процессе индивидуализации свою функцию, занимает только ему принадлежащее место в обществе как целом и таким образом образует с ним нерасчлененное единство, реализуя тем самым в истории «всеобщую ценность индивидуальности». 34
Индивидуализация, неравенство и свобода
Общераспространенным, как указывает Зиммель, является мнение, что то, что называется индивидуальностью, было создано в эпоху Возрождения. Речь идет о высвобождении индивида из средневековых общинных форм коллективной жизни, нивелирующих жизнь, деятельность и основные побуждения индивида, стирающих очертания личности, сдерживающих развитие ее свободы и личной ответственности.
Однако в данном случае речь идет о специфическом процессе индивидуализации – об индивидуализме отличительности, честолюбия, самоутверждения и подчеркивания исключительности своей особы. Этот «индивидуализм был еще настолько связан множеством ограничений, настолько определялся банальными низинами бытия, что у индивида не было возможности к развитию своих сил, своей жизненной свободы, чувства личностной самодостаточности. Накопление этого подавленного индивидуализма привело к взрыву только в XVIII веке. Но он двинулся по иному пути, ведомый другим идеалом индивидуальности, – его глубочайшим мотивом стало не отличие, им была свобода». 35
Свобода становится идеалом и главным требованием перед лицом утративших всякую легитимность и всякое право на существование институтов прежних обществ. Эти институты – сословные привилегии и деспотический контроль со стороны церкви, государства, цеховой организации, отсутствие политических свобод – сдерживали энергию и свободу индивидов и осознавались индивидами как жизненные оковы. «Рвущийся к самоосуществлению индивидуализм, – пишет Зиммель, – имел своим фундаментом представление о индивидов». природном равенстве 36
Специфика индивидуализма XVIII в. состояла в том, что центром интересов того времени был человек вообще, всеобщий человек, который как сущность живет в каждой отдельной личности. Право, свобода и равенство при такой перспективе сущностным образом связаны – в этом «стержень понятия индивидуальности, который принадлежит к великим категориям истории духа». По мнению Зиммеля, именно всеобщее равенство стало «глубочайшей точкой индивидуальности, а индивидуальность абстрактного человека сделалась последней субстанцией личности». 37 38
Фактически в такой концепции индивидуальности мы сталкиваемся с претензией на полную когерентность индивидуальности и социального порядка. Зиммель указывает на это прямо и пишет: «В практической области эта концепция индивидуальности явным образом выливается в laisser faire, laisser passer. Если во всех людях содержится всегда тот же самый „человек вообще“ как общая их сущность, коли предлагается полное и ничем не сдерживаемое развитие этой сердцевины, то не требуется никакого регулирующего вмешательства в человеческие отношения. Игра сил должна следовать по законам той же самой природной гармонии, как процессы, происходящие в звездном небе». 39
Однако свобода индивида и равенство не могут совпадать. Равенство недостижимо и невозможно: стоит индивидам обрести свободу, как начинает проявляться их естественное неравенство, появляется «новое угнетение: глупых – умными, слабых – сильными, робких – агрессивными». XIX век в полной мере выявил это противоречие между равенством и свободой. Социальная мысль XIX века в полной мере осознала проблему, и «новый индивидуализм» на место равенства поставил проблему неравенства. При этом Зиммель подчеркивает, что «свобода остается общим знаменателем при всей полярности этих коррелятов». Новый индивидуализм оказался связанным с тем, что стоило индивидам освободиться от ограничений церкви, сословия, цеха, как эти индивиды пожелали отличаться друг от друга, быть особенными и незаменимыми, обладать своей неповторимостью и индивидуальностью. Упор делается не на равенстве с другими, а на полном своеобразии.
Зиммель следует в своих воззрениях формуле Фридриха Шлегеля, которую он характеризует как « индивидуализм»: «индивидуальность представляет собой изначальное и вечное в человеке; на личность возложено куда меньшее». По мнению Зиммеля, этот индивидуализм «нашел своего философа в Шлейермахере», через которого история идей получает новую формулу: не равенство, но различие людей становится нравственным требованием. Этот индивидуализм Зиммель называет качественным, индивидуализмом единственности, в противовес индивидуализму нумерическому и единичности, заявленному в XVIII в. новый
Зиммель, подводя итог, заявляет, что можно сказать, что «индивидуализм свободной, мыслимой как принципиально равной другим, личности утверждается в рационалистическом либерализме Франции и Англии, тогда как качественная неповторимость в большей мере является делом германского духа». Все Новое время, пишет Зиммель, происходит поиск индивидом самого себя, точки опоры и несомненности, нужда в которой становится все больше вместе с расширением множественных и практических перспектив, вместе с усложнением жизни. Именно поэтому такую точку не удается найти в какой бы то ни было внешней для души инстанции. «Все отношения с другими людьми оказываются, в конечном счете, только остановками на пути, по которому Я движется к себе самому. Я может сравнивать себя с другими, поскольку в своем одиночестве еще нуждается в такой поддержке; оно может стать настолько сильным, чтобы претерпевать одиночество, и тогда множество других существует лишь для того, чтобы каждый видел в них просто меру своей неповторимости, меру индивидуальности своего мира». 40 41
2.2. Индивидуализация как процесс рационализации
2.2.1. Индивидуализация и рационализация:
Макс Вебер (1864—1920)
Концептуализация процесса индивидуализации у Макса Вебера носит значительно более сложный характер, чем у Э. Дюркгейма или у Г. Зиммеля. В работах и Дюркгейма, и Зиммеля процесс индивидуализации рассматривается в перспективе становления индивида модерна, т.е. как процесс высвобождения из различных форм и групп традиционных обществ в связи с общим процессом дифференциации, причем рассматривается с опорой на материалы социально-антропологических исследований. Вебер же опирается, прежде всего, на масштабные исторические исследования культуры и религии. У Вебера при исследовании процессов развития культуры и общества речь идет не о процессах высвобождения индивида из различного рода культурных, религиозных и социальных коллективностей, результатом чего становится индивидуальность человека. Процесс индивидуализации осуществляется на основе общего процесса рационализации, отличного от процесса дифференциации.
Главное состоит в том, что если у Э. Дюркгейма и Г. Зиммеля процесс индивидуализации и процесс нарастания свободы индивида в тенденции совпадают, то у Вебера становление индивида модерна, связанное с общим процессом рационализации, ведет к ограничению, а не к росту его свободы. И если индивид в перспективе теорий Э. Дюркгейма и Г. Зиммеля предстает как утрачивающий замысленное и проектируемое в контрактуализме , то у М. Вебера он утрачивает , попадая в тиски инструментального разума и формальной рациональности – тенденции, которая в полной мере проявилась в ХХ веке. равенство свободу
Индивидуализация в социологической теории М. Вебера – это развертывающаяся на нескольких уровнях совокупность социально-исторических процессов, стержень которых образует процесс рационализации.
В социологии М. Вебера у процесса рационализации два главных источника. Во-первых, это теоретическое мышление, направленное на расколдование мира, и, во-вторых, созданные в рамках религиозного мировоззрения и практики различные модели религиозной этики, стремящиеся «практически рационализировать мир в этическом смысле». При этом в историческом плане этическая рационализация мира предшествует рационализации, осуществляемой теоретическим мышлением. 42
Соответственно, процессы индивидуализации можно разделить на два периода: домодерновый период и период, связанный с существованием модерновых обществ. Общая хронология процессов совпадает с соответствующей хронологией в теориях Э. Дюркгейма и Г. Зиммеля. Однако нет содержательного совпадения. Развитая индивидуальность в теории М. Вебера в равной мере присутствует и характеризует оба исторических периода, а не только период становления и существования обществ модерна. При этом процесс индивидуализации в домодерновый период осуществляется преимущественно как этическая рационализация, а в эпоху модерна центр тяжести смещается на научную рационализацию.
Рационализация всегда предстает как создание метода, т.е. средств и инструментов достижения целей, и как формирование соответствующих социальных практик у сословий, групп и профессий, использующих оформившийся метод. Таким образом, индивидуализация осуществляется как процесс рационализации жизненного поведения индивида, как . методическое ведение жизни
Такое видение задает смысл всему теоретическому построению М. Вебера. Любое социологическое исследование начинается с вопроса о том, какие мотивы заставляли и заставляют отдельных людей, членов данного сообщества вести себя таким или иным образом. Методологический подход М. Вебера предполагает, что объектом теоретического и эмпирического интереса может быть только индивидуальное человеческое действие, а целью исследования – понимание и объяснение человеческого действия. Задача же социологии состоит «в интерпретирующем понимании осмысленно ориентированных человеческих действий». Социология, пишет М. Вебер, «рассматривает отдельного индивида и его действие как первичную единицу, как «атом», а любые формы коллективностей, например «общество» в качестве «категорий определенных видов совместной деятельности людей». Данная общеизвестная методологическая позиция М. Вебера приведена здесь для того, чтобы подчеркнуть роль и значение исследования процесса индивидуализации в социологии М. Вебера. 43 44 45
Индивидуализация – это исторический процесс, истоки которого следует искать в истории религиозной жизни. Начало процесса индивидуализации стартует с оформления этик спасения. Индивидуализация – это процесс высвобождения индивида из «культа сообщества». М. Вебер следующим образом описывает этот процесс: «Исконный культ сообщества, прежде всего политических союзов, игнорировал все индивидуальные интересы. Бог племени, местности, города, империи заботился только о том, что касалось сообщества в целом… К нему взывало, следовательно, в своем культе сообщество как таковое. Для предотвращения или устранения зла – прежде всего болезни – отдельный человек обращался не к культу сообщества, а к колдуну, старейшему „пастырю“ индивидов… Маг превращался в мистагога: возникали наследственные династии мистагогов или организация с обученным персоналом, главы которых определялись по известным правилам… Таким образом, появилось учреждение религиозного сообщества, связанное с собственно индивидуальным „страданием“ и „избавлением“ от него». 46
Процесс индивидуализации идет рука об руку с процессом рационализации и систематическим размышлением о «смысле» мира. Рационализация и процесс индивидуализации оказываются двумя сторонами единого процесса развития культуры и основных культурных форм, создателем и носителем которых является индивид. Рационализация сферы религиозной нравственности и появление соответствующих этик оформляет процесс индивидуализации.
М. Вебер увязывает процессы рационализации с двумя фундаментальными проблемами, которые необходимым образом должен решать человек в своем существовании: это проблема смысла и проблема страдания и справедливости. Они взаимосвязаны и предстают первоначально у М. Вебера в рамках исследований различных культов и религий спасения. «Сознательно культивируемая, – пишет М. Вебер, – в качестве содержания религиозности потребность в спасении всегда и повсюду возникала как следствие стремления к систематической практической рационализации реальной жизни, …как следствие стремления… показать, что мировое устройство – во всяком случае постольку, поскольку оно затрагивает интересы людей, носит в той или иной мере характер… Это проистекало естественно, как следствие проблемы несправедливости страдания, как постулирование справедливого распределения индивидуального счастья в мире». осмысленный 47
М. Вебер указывает на очевидное мироощущение человека, согласно которому «мир как средоточие несовершенства, страдания, греха, преходящести, обремененный виной» с этической точки зрения всегда лишен смысла и ценности. На утрату ценности и смысла человек реагировал совершенно определенным образом – он искал путь «спасения». И «чем систематичнее становилось размышление о „смысле“ мира, чем рациональнее был этот мир в своей внешней организации, чем сублимированнее было осознанное переживание его иррационального содержания, тем более удалялось от мира, от упорядоченности жизни специфическое содержание религиозности. И к этому вело не только теоретическое мышление, направленное на расколдование мира, но именно попытка религиозной этики практически рационализировать мир в этическом смысле». 48 49
Но чем интенсивнее рациональное мышление занималось вопросами справедливого распределения, счастья, страдания, равенства, тем проблематичнее выглядело его внутримирское решение. Поэтому вопрос был перенесен в область внемирского его решения и предстал как теодицея страдания и религия спасения. Развитие этой тенденции предполагало создание религиозной веры в «Спасителя» и религиозных этик спасения, стремящихся к практической рационализации несправедливости и страдания.
М. Вебер выделяет различные типы религиозных этик, из которых, однако, не каждая представала как рациональный метод ведения жизни и решения для индивида проблемы смысла и спасения в бессмысленном и несправедливом мире, наполненным страданием. Страдание всегда шло рука об руку с надеждой индивида на спасение, а «надежды на спасение почти всегда порождали теодицею страдания», выходом из которого не всегда, однако, была рационализация картины мира и создание метода или рациональной этической модели жизни.
Из «трех видов теодицеи», среди которых Вебер называет мистицизм, монашескую аскезу и мирской рациональный аскетизм, только последний оказался способным в полной мере стать рациональным основанием для мирской этики спасения, как рационального метода ведения индивидуальной жизни, ведущего к спасению, а также основанием исторического процесса индивидуализации.
Во все времена, считает М. Вебер, к уничтожению магии и суеверий и формированию рационального образа жизни приводило только одно средство – великое пророчество. Это явление отнюдь не свойственно исключительно христианству, оно часто встречается в истории религий, и наиболее яркой его формой является аскетизм. Аскетизм означает твердое проведение в жизнь определенного строгого уклада жизни. Монашество является первой рационально живущей группой людей, методически и сознательно стремящихся к одной цели – блаженной жизни за гробом. Однако сознательно последовательный образ жизни ограничивался только монашеством. Попытки внедрить его в мирскую жизнь разбивались в христианстве о церковный институт покаяния в грехах, исповеди и отпущения грехов. С этой системой дуализма в этике, разделения мирской и монашеской морали, различия между моралью для всех и моралью для немногих избранных решительно порвала Реформация. Только в эпоху модерна аскетизм стал внутримирским, для чего Реформация создала свои особые правила. Этими правилами было служение Богу в миру, соединение с Богом через труд, через профессию, через призвание. М. Вебер приводит в связи с этим известное высказывание: «ты думаешь, что убежал от монастыря – нет, теперь каждый всю свою жизнь должен быть монахом». Порицая наслаждение, но, не разрешая отрекаться от мира, протестантизм задачей каждого человека считал подчинение себе внешних условий жизни. Протестантская аскеза, этика ведения жизни и спасения создают и оформляют индивида модерна. 50
Мирской рациональный аскетизм является радикальной противоположностью мистицизма с его религиозным содержанием, уходом от жизни и действия, предлагает в качестве своего основания «аскезу действия», которая находит себя в миру, преобразует его рационально и подавляет «рукотворно-греховное с помощью какой-либо мирской профессии (мирская аскеза)». «Beruf» – призвание, профессия – стало одним из центральных понятий веберовской социологии. «В понятии «Beruf», – пишет М. Вебер, – находит свое выражение тот центральный догмат всех протестантских поисков, …который единственным средством стать угодным Богу считает не пренебрежение мирской нравственностью с высот монашеской аскезы, а исключительно выполнение мирских обязанностей так, как они определяются для каждого человека его местом в жизни; тем самым эти обязанности становятся для человека его «призванием». 51 52
Мирской рациональный аскетизм – аскетизм профессионального призвания – изначально связал процесс индивидуализации и становления индивида модерна с процессом рационализации.
В результате «современной теоретической и практической интеллектуальной и прагматической рационализации картины мира и жизненного поведения» основой поведения индивида становятся рациональные структуры социального поведения, которые осуществляют историческое развитие социального действия от традиционного его типа к аффективному, ценностно-рациональному и целерациональному. 53
Отметим следующее. Указанный М. Вебером целерациональный тип социального действия стал господствующим в хозяйственной сфере, сфере права и государственного управления, приводя к всеобщему доминированию инструментальной рациональности. Это поставило индивида перед лицом новых исторических вызовов, связанных не только с социальным неравенством и социальной справедливостью, но и с судьбами его социальной свободы.
2.2.2. Индивид и инструментальный разум:
Макс Хоркхаймер (1895—1973)
Вызов индивиду со стороны процесса рационализации и оформившегося в ХХ в. господства инструментального разума в полной мере в социологии был тематизирован и осмыслен прежде всего Критической теорией. Наиболее точно, полно и лапидарно диагноз был поставлен Максом Хоркхаймером: «Формализация разума ведет к парадоксальной культурной ситуации. Деструктивный антагонизм самости и природы – антагонизм, выражающий суть истории нашей цивилизации, достигает в нашу эпоху своего пика. Мы уже видели, как тоталитарные усилия покорить природу низвергли Я, человеческого субъекта, до состояния орудия подавления. Все остальные функции самости, ранее выражавшиеся общими понятиями и идеями, были дискредитированы». 54
Как подчеркивает М. Хоркхаймер, современный «кризис разума» находит свое выражение в «кризисе индивида», в качестве органа которого разум развивался и понимался при этом индивидом как «инструмент самости». Кризис разума при этом состоит в том, что «достигнув своего логического завершения, разум стал иррациональным и перестал быть самим собой». Эта ситуация иррациональности разума и требует постановки вопроса об индивиде. М. Хоркхаймер считает, что постановка вопроса об индивиде как об исторической данности – это постановка вопроса о человеке как о сознательном человеческом существе, т.е. как индивидуальности и как о самотождественной личности. Называние себя «Я» – это самое «элементарное утверждение личности». 55
Индивидуальность предполагает развитую потребность и стремление к безопасности, «материальной и духовной устойчивости своего существования», которые связаны с властью над вещами и контролем над обществом. Однако, «чем сильнее у индивида развито стремление к власти над вещами, тем сильнее вещи господствуют над ним, … тем сильнее его сознание превращается в автомат, послушный формализованному разуму». Слепое развитие технологии усиливает социальное угнетение и эксплуатацию и превращает и прогресс, и индивида в их полную противоположность – в варварство. 56
М. Хоркхаймер прослеживает исторические этапы процесса индивидуализации, выявляя специфику природы индивида на каждом из них. Процесс индивидуализации, или, как пишет М. Хоркхаймер, «история индивида» началась в Древней Греции. В лице Сократа «мы видим истинного поборника абстрактной идеи индивидуальности и первого, кто открыто утверждал автономию индивида». Моделью становящейся индивидуальности стал греческий герой, уверенный в своих силах, побеждающий и освобождающийся от власти и традиции, и племени. Развитию индивида способствовал полис, судьба индивида была тесно связана с развитием урбанистического общества. Платон, как подчеркивает М. Хоркхаймер, первым предпринял попытку создать философию индивидуальности в соответствии с идеалами полиса, а Аристотель ни в коей мере не отклонялся от учения Платона. Вместе с тем, «системе Платона присуща идея объективного, а не субъективного или формализованного разума. …Личность – это микрокосм, соответствующий социальной и природной иерархии». И только у Сократа отношение между индивидом и Вселенной было поднято на иной уровень, только у него субъект мыслил себя через противопоставление внешней действительности. 57 58