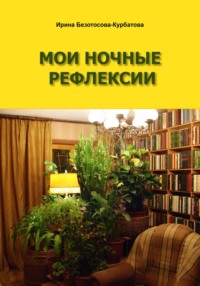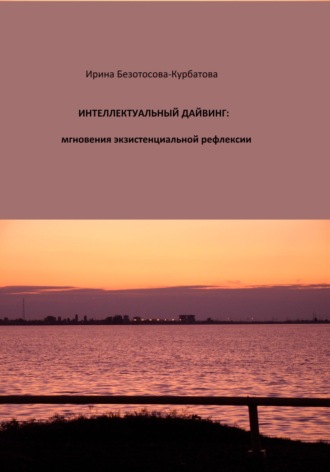
Полная версия
Интеллектуальный дайвинг: мгновения экзистенциальной рефлексии
Жизнь как мечта о профессии (осуществившаяся и неосуществившаяся):
* Моя одноклассница (правда, к нам в класс она попала только в девятом классе) очень хотела поступить на английское отделение пединститута. Уровень английского при этом был у неё достаточно низкий, но амбиции – высокие. Но её мечта не соответствовала тем волевым усилиям, которые надо неизменно прикладывать, чтобы реализовывать серьёзные цели в жизни. Сдавать выпускные экзамены она наотрез отказалась и родители достали спасительную справку (таких в нашем классе оказалось – трое!). Ни в какой пединститут она не поехала. Но устроилась в библиотеку. В библиотечный институт заочно она всё-таки поступила. Но закончить его не смогла (будто бы из-за математики). Проработав библиотекарем несколько лет, вынуждена была уйти в какое-то ателье … вышивальщицей (я об этом узнала, когда её разыскивала в 1983 году – 14 лет спустя после нашего окончания школы, позвонив в ту самую библиотеку). Встретиться нам с ней было не суждено. Надеюсь, что, может быть, личная жизнь её сложилась удачно (?).
* С этой женщиной я никогда знакома не была. Но о ней с большим уважением отзывалась моя приятельница (кандидат филологических наук), особенно о её высоком уровне знания английского (её и приняли в наш Волгоградский университет именно из-за прекрасного английского – когда она приехала из Красноярска). Она очень любила литературоведение, но, к сожалению, пошла по линии наименьшего сопротивления и … защитила диссертацию по экономике (в диссертационном совете ректора университета), продолжая, конечно, преподавать английский язык. Но, как я часто люблю говорить вслед за З.Фрейдом, обмануть можно наше сознание, но не наше бессознательное. Она будто бы всегда переживала свою несбывшуюся мечту (как нереализованные возможности). И замужем никогда не была. После 50 лет она заболела онкологией, перенесла мучительную операцию мозга и уже через три года ушла из жизни. Никто, наверное, не сможет точно назвать причины болезни, но я думаю, фрустрированное сознание (неосуществленная профессиональная мечта) – одна из причин.
* Когда я поступила на первый курс ин.яза в пединституте, то из всех наших преподавателей лучше всех английский язык знала очень молодая преподавательница Татьяна Самойленко, которая вела у нас домашнее чтение (очень выделялась по уровню профессионализма – особенно на фоне многих весьма посредственных доцентов – но не всех!). В течение, кажется, лет семи она была до этого почасовиком, но, когда мы учились, она уже была зачислена в штат преподавателем. Жила она от института далеко: хотя и в том же Кировском районе, что и я, но не в центре района, а в Бекетовке, куда единственный автобус «двойка» вечером уже практически не доходил (а наш факультет учился во вторую смену – минимум до девяти вечера, а с работой научных студенческих кружков – порой до 10-11 часов) и ей приходилось ездить только на электричке. У неё был очень маленький ребёнок (с мужем была разведена) и, как она нам как-то сказала – хронически не высыпалась. Но проблема была не только в этом – и даже не в этом. Как только она стала преподавателем, на неё сразу повесили чудовищную нагрузку – 52 часа в неделю – вместо положенных 18 (с этим я столкнусь сама, когда стану преподавателем в вузе – но, как стоик, буду выдерживать эту адскую нагрузку очень много лет – вообще, такое несправедливое распределение часов буду потом наблюдать везде и в других вузах (со слов моих знакомых-коллег) – у кого-то (приближенного или просто очень наглого!) – три часа в неделю, а у кого-то (порядочного и скромного) – все 33 часа в неделю! – и сейчас это по-прежнему процветает!). Но тогда с маленьким ребенком на руках молодой красивой образованной женщине (которой, наверняка, завидовали чёрной завистью!) выдержать такое напряжение было невозможно – и она ушла из института. Я её встретила совершенно случайно 17 лет спустя в очереди по оформлению загранпаспортов. Она давно уже работала в банковской сфере (кажется, как переводчик). Выглядела она по-прежнему очень мило: она была похожа на американскую поэтессу с ни на кого не похожим чудным грустным талантом -Эмили Диккнсон (портрет её известен), которая в свое время о себе написала: «У меня большая копна волос, а глаза, как вишенки, оставленные в торте, церемонным гостем»), уезжала она за рубеж к кому-то в гости (а, может быть, и навсегда) – мы тепло попрощались. А я потом долго была в грустном настроении (какого преподавателя лишилась высшая школа!). Но одновременно надеялась: другой сектор профессиональной сферы она украсила своим интеллектом, своими знаниями и своим обаянием.
* Репортаж из проекта «Дневники профессий» по каналу «Поехали!».
Этот рассказ о начальнике сейсмологической станции на Камчатке Владимире Георгиевиче Ушакове, меня восхитил! Уже немало лет (в районе 70), по-прежнему трудится, по-прежнему обожает свою профессию, живёт в своем чудном домике (конечно, рядом с вулканом, которым любуется каждую минуту и который бесконечно исследует как ученый). На Камчатке он родился, закончил институт и никуда не уехал – остался навсегда. В его доме прекрасная библиотека. И – очень много всего сделанного из дерева (это хобби оказалось его второй страстью). А еще – чудный огород (где всё прекрасно растет в изобилии!) и сад – райский уголок! Счастливая судьба (кто-то скажет и будет прав!). Но только эта реализованная мечта всегда была сопряжена с огромным трудолюбием, колоссальной силой воли и беспрецедентным мужеством. Вызывает зашкаливающее восхищение!
Из этих четырёх примеров, взятых из реальной жизни – только один (рассказ о вулканологе) раскрывает состоявшуюся внутреннюю жизнь человеческой души (другим или помешали это сделать, или это была их только внешняя мотивация – не внутренняя). Вопрос о разнице между внутренней и внешней мотивацией вызывает много споров – вплоть до того, что внешней мотивации, вообще, не существует, а существует будто только внутренняя.
Категория мотивации в психологии до такой степени хорошо изучена, что перешла все научные границы. О мотивации не говорят только ленивые (по поводу и без повода!). А научная психология ХХ в. – это бесконечная череда теорий и концепций мотивации: в первую очередь, это 5-уровневая концепция (позже её назовут «пирамида») самоактуализации А.Маслоу : физиологические потребности (пища, вода, сон, дом, секс,); потребность в безопасности (защищенность, уверенность, стабильность, здоровье, комфорт); потребность в принадлежности (общение, дружба, любовь и привязанность); потребность в признании и оценке; потребность в самоактуализации – реализация способностей и талантов присутствует у многих, но лишь у немногих она является свершившейся; концепция базовых потребностей Б.Ломова (материальные, когнитивные (в познании), в общении, в деятельности, в отдыхе, эстетические и др.); Д.Мак-Кллеланд выделяет 3 базовых мотива человеческого поведения: мотив достижения (стремление к успеху и страх неудачи), мотив принадлежности к группе (стремление к защите и страх отвержения), мотив власти (стремление к доминированию и страх зависимости); наконец, концепция ожидания – значимости Дж.Аткинсона.
Все эти мотивационные концепции хороши тем, что, изучая их, задумываешься – а как они проявляются в моей собственной жизни? Например, многие испытывают страх неудачи и страх отвержения. У кого-то остро выраженная мотивация принадлежности к группе так и остается нереализованной (вообще, поиск референтной группы (термин предложен Г.Хайменом) в жизни интеллектуалов – почти недостижимая цель. А потребность в безопасности в современном мире – абсолютно невыполнимая задача. А некоторые люди, вообще, даже представления не имеют о существовании, например, таких потребностей, как интеллектуальные или эстетические (они им просто не нужны!).
Но, если всё-таки вернуться к вопросу о существовании внутренней и внешней мотивации и определить внешнюю – как достижение внешних целей: ради престижа, ради удобства, ради выгоды, ради карьеры, а внутреннюю – как достижение внутренних целей: ради глубокого познания (а не получения оценок), ради высокого профессионализма (а не ради карьеры), то, наверное, всё-таки правильнее разделять мотивацию на внешнюю и внутреннюю. Но также проводить демаркационную линию между высоким и низким уровнем их содержания. Умная Джейн Остин в своем романе «Гордость и предубеждение» провела чёткую линию между тщеславием и честолюбием, определив первое как желание возвыситься в глазах других (внешняя мотивация), а второе – как желание возвыситься в собственных глазах (внутренняя мотивация). Такая же разница между гордостью (гордыней) и достоинством. И такая же разница между глубиной и поверхностью. Иными словами внешняя поверхностная мотивация – это тщеславие и гордыня, а внутренняя глубокая мотивация – это честолюбие и достоинство.
НО здесь возникает интересный парадокс: почему невольно мы внутреннюю мотивацию определяем под знаком плюс, а внешнюю – под знаком минус? Потому что мы это анализируем в контексте рефлексии. А, если выйти из этого контекста и войти в другой – нравственный, то там мы и увидим картинку с «кипящим бульончиком». Эту идею мне сегодня подбросил Лёша Тимченко, с которым мы в постоянных психологических диалогах. Мы обсуждали с ним блестящее интервью с Александром Ходаковским. Среди многих тем, которые он анализировал очень глубоко, одна меня выбила из колеи: все почему-то (и он тоже) считают, что, если «низы» замотивировать, то жизнь будет прекрасной, иными словами – вернуться к идеологии (многие сейчас об этом говорят). Особенно, когда понимают, что одни на фронте воюют за деньги (внешняя мотивация), а другие ребята Родину любят (внутренняя мотивация). Вот, надо «замотивировать» (слово то какое противное!), т.е. так промыть мозги, чтобы искренне любили Родину. НО в СССР в течение 70 лет шло промывание мозгов идеологией. И что? Всё рухнуло и исчезло в 1991 г. – за одну секунду! Эти «мотивированные» и «идеологизированные» в одну секунду сделались мошенниками, убийцами, предателями и просто подлецами. И никто не понял: почему? – А потому что всё это было внешней накипью, фальшью и лицемерием! То – что мотивировалось извне. Поэтому внешние условия и внутренние установки – это не одно и то же. Поэтому, кто истинно Родину любит (внутренняя нравственная мотивация) – это те, у кого есть ДУША. Именно душа определяет нравственную ценность человека и формирует его внутреннее содержание и внутренние установки. А, если у человека внутреннее содержание негативное (безответственный, завистливый, жадный, ленивый, хитрый, злой, жестокий) – это тоже говорит о его внутренней мотивации? Конечно, только она негативная в нравственной сфере. И вряд ли этот человек имеет душу. В языке, как индикаторе жизни, есть слово «бездушный». В точку!
НО, если всё-таки снова вернуться в рефлексивное поле изучения мотивации, то при внешней мотивации (не глубокой, поверхностной) человек легко может отказаться от неё (наша первая история про мою одноклассницу) и пойти по лёгкому поверхностному жизненному пути, где не надо особенно париться. И при этом, возможно, даже не испытывать когнитивный диссонанс и психологический дискомфорт. Кто-то язвительно скажет: сработала адаптивная функция интеллекта и помогла избежать стресс и фрустрацию. А я также язвительно отвечу: и неизбежно привела к деградации – 100 %! Античные философы (Плотин, Августин) с точки зрения содержания жизни не признавали ничего внешнего, только внутреннее. М.Метерлинк в «Разуме цветов» писал: «Внешних событий может быть тысячи, но ни одно не претворится в событие духовное». Поэтому человек индивидуальной внутренней рефлексивной глубины – чрезвычайно редкое явление. Среднестатистический поверхностный, пустой человек, одномерный человек (без глубоких знаний, без интересной и любимой профессии, без дорогих сердцу мест и событий) довольно легко идёт на компромисс с самим собой, ища не только лёгкие для себя пути, но и легко это оправдывая – и даже получает от этого удовольствие (поверхность меняется легко, а глубина – нет)… но … чаще всё-таки бессознательное обмануть невозможно (маленькая месть за несправедливость в этой жизни!).
* У 49-летней дочери моей знакомой внешне всё прекрасно: она работает директором одного крупного провайдера в нашем городе (и области) – крутая: всех «строит» (по словам мамаши): и мужа ПТУ-шника, и сына (которого недавно за бешеные деньги отправила в Америку – чтобы откосить от СВО) и других, но … никогда ничем не довольна: ни своей работой (всем вечно от неё что-то надо), ни своей страной, ни правительством, ни налоговой … В свое время заочно поступила куда полегче – на специальность «социальная работа» (по которой никогда не работала – ведь все блатные места заняты!). В 17 лет вышла замуж (и брак этот длится до сих пор). И ей никогда и в голову не приходило, что со своими неплохими способностями к рисованию могла бы поступить на архитектурный или дизайнерский факультет и получать радость от профессии по призванию. НО – это ведь надо было сначала поступить и потом пять лет серьезно учиться!
Но иногда понимание своего призвания приходит не изнутри, а как бы случайно (См. мое эссе «Энергия и наши желания» о спелеологе Н.Кастере).
* У Агаты Кристи понимание её литературного таланта писательницы тоже пришло случайно, но – очень во время. Дело в том, что она готовилась стать успешной пианисткой (кстати, у неё был к тому же и прекрасный вокал), но этого не случилось из-за панического страха сцены («stage fright»), который она не смогла преодолеть (не хватило воли? – ведь на это требуются колоссальные усилия! – знаю по своему опыту). Вместо этого она на спор со своей старшей сестрой Мадж написала свой первый роман «Таинственное происшествие в Стайлзе» (на самом деле, как сама Агата написала в своей «Автобиографии» – этот роман ей предложил написать её первый муж Арчи, и, хотя 2000 экземпляров разошлись мгновенно, заплатили ей за него крохи (25 фунтов), но… он принес ей главное – славу и – понеслось…). Некоторые завистники (вчера прочитала в интернете) считают, что, вообще-то Агата была неудавшейся пианисткой, неудавшейся медсестрой и даже … неудавшейся домохозяйкой. Такой ядовитый текст и … абсолютно несправедливый! Пианисткой она, безусловно, состоялась, но без сценичной славы (некоторым она совсем и не нужна!), а медсестрой (а позже – фармацевтом) еще как состоялась! Работала в госпиталях и в Первую, и во Вторую мировую войну (когда ей было уже за 50! – в очень тяжелых условиях). К тому же этот опыт (особенно в фармацевтике) помог ей потрясающе талантливо всё описать в своих произведениях! А что касается домохозяйки, то, вообще-то, у неё всегда была прислуга, но я запомнила один чудный снимок, на котором 65-летняя Агата лихо расправляется с большой порцией теста, чтобы приготовить домашний пирог. А еще ядовитый автор статьи, видимо, не в курсе одной страсти Агаты – скупать дома – более 100 за свою жизнь! и – создавать там чудные интерьеры! А как она водила машину, рассекая по дивным дорогам Англии! Да, у этой в высшей степени одаренной писательницы было много других талантов – и во всех она состоялась! Стоит прочитать её «Автобиографию»!
Но я часто размышляю о том, что даже, когда человек состоялся в своей профессии (осуществил, так сказать, свою мечту), далеко не всем удается получать от своей уже сбывшейся мечты – перманентное наслаждение.
* Жизнь как НАСЛАЖДЕНИЕ. С Андреем Оляничем мы вместе учились в институте. Он был очень яркой личностью: всегда безукоризненно одет (как правило, в элегантный серый костюм), очень приятной внешности (почти блондин с серыми очень умными глазами), уже тогда с прекрасным английским (как-то восхитительным ранним летним вечером мы случайно встретились на Ленинском проспекте, он сразу перешел на английский и тут же поправил меня – правда, моя ошибка была очень условной, потому что фонетический словарь Даниэля Джоунза допускал это произнесение как второй вариант – но я совсем не обиделась – мы, вообще, в отношении английского и интеллектуальной сферы ценили другу друга), в институте он блистал в научном лексикологическом кружке (потом его направили в очную аспирантуру в Орле и он быстро защитил кандидатскую диссертацию). Но после института наши пути разошлись. Мы с ним не виделись 24 года. И вдруг я узнаю, что его после защиты докторской пригласили на заведование кафедрой иностранных языков в нашу (тогда уже) сельхозакадемию. Я недоумевала: с таким английским и – в сельхоз? Он заслуживал минимум университета! Но я очень обрадовалась, когда мы встретились. У Андрюши была одна редкая особенность – он поддерживал отношения со многими преподавателями все последующие годы после окончания института и о многих мне рассказал и – о том, как они уходили из жизни (некоторых он навещал в больнице). Еще одной его особенностью была способность адекватно воспринимать людей и очень точно это вербализировать. Точно и смело. Без унизительных эпитетов. Только о своем отце он отозвался предельно кратко: редкостная сволочь. Он обожал свою маму и младшего брата (которые, в свою очередь, гордились его высокими успехами). Так он и жил с ними – душа в душу. И, когда ему предложили место профессора в Адыгейском университете в Майкопе, он принял приглашение, купил там дом и всех своих домашних увез с собой. Но сам он так и не женился. Он неожиданно умер во сне в возрасте 63 лет в ноябре 2020 года (возможно, с ним расправился ковид). Для меня это стало потрясением (и потому что несправедливо рано, и потому что это был человек редких знаний, и потому что безжалостно оборвалась очередная ниточка с институтской юностью). Когда я читала потрясающе пронзительный некролог его коллег – учёных из Адыгейского университета, я испытала к ним огромную благодарность: с какой любовью они его написали и какие точные слова они нашли, особенно эти: он умел жить со вкусом. В десятку! Я никогда не забуду его огромный кабинет – весь в дыму (Андрюша много курил), мог предложить и коньячку. Но главное, конечно, это – его улыбка и прекрасный умный интересный разговор.
* Об этом Петербургском архитекторе я практически ничего не знаю – даже имени его не запомнила из одного случайного репортажа. НО! Я запомнила его лицо, и то, о чём он говорил и – его потрясающий дом! Очень изысканное интеллигентное лицо! Умная речь, наполненная глубокой рефлексией. А его дом – точнее квартира (кажется, на втором этаже) небольшого особнячка, затерянного в маленьком узком переулке в центре города – меня потряс до глубины души: изящная мебель, всё в светло-кофейных тонах и оттенках, удлиненные окна с прекрасным обрамлением, библиотека, конечно, и – удивительное локальное в нескольких местах освещение – так и струился свет по всей квартирке! Редкий утонченный вкус! А он неспешно спокойно рассказывал, как он бесконечно любит жизнь, свою профессию, свой дом. Никогда не был женат. Потому что кто-то другой рядом будет красть у него его время, его пространство, его досуг и его мысли, с которыми он любит постоянно быть наедине, то есть – наедине с самим собой. Он говорил это без помпы, без назидания, без позы, без желания быть оригинальным и непохожим на всех других. Его голос очаровывал. Он говорил о том, что жизнь для него – наслаждение. Абсолютно ничего в ней не хотел бы менять. Наоборот, очень хотел бы, чтобы всё так и протекало как сейчас – до его последнего вздоха. Вот такое умиротворенное интеллектуальное и эстетическое наслаждение жизнью.
* Пожалуй, больше всех из профессионалов, кого я встретила в своей жизни, меня поразил первый муж моей сестры – Леонард Людвигович Кострицкий. Коренной петербуржец, умный, образованный, закончил математический факультет ЛГУ – философский был для него закрыт как для сына врага народа! (астроном по образованию, но ни дня по этой профессии не работал), окончивший аспирантуру по математической философии (но так и не защитивший диссертацию) – всю свою жизнь посвятил КНИГАМ – до такой степени страстно их любил – поэтому работал в Публичке старшим научным сотрудником. Он книги регулярно покупал и собрал дома очень большую библиотеку, постоянно был в курсе всех новинок и дома в ящиках стола у него были картотеки новых книг (в библиотеке на работе ему было мало!). Так и вижу его дома с ножницами, вырезающего из «Книжного обозрения» аннотации новинок (докомпьютерная эра!). Но свою страсть к книгам он утолял еще одним особым способом: он любил после обеда покидать комнату, где он с сотрудниками работал (они присваивали шифры и коды вновь поступившим в библиотеку книгам) – Леонард – в области математики и астрономии. Покидал комнату он на часик-два. Вешал на стул пиджак – и вроде как он находится где-то в других залах. Однако на самом деле он выходил на Невский и устремлялся в книжные магазины (Дом книги, Лавка писателей, Букинист, Академкнига). Насладившись атмосферой книг в книжных магазинах и обязательно что-нибудь купив, он обычно сразу шел в свой любимый кафетерий (в те годы на Невском было только три места с отменным кофе (далеко не все были посвящены!), в частности, в кафе «Сайгон» при ресторане «Москва»), выпивал чашечку двойного кофе и … несколько грамм коньячка. Довольно почёсывая пузик, он как ни в чём не бывало возвращался на работу. Это продолжалось довольно долго – пока до его сотрудниц не «дошло», где он на самом деле проводит время и – их накрыла зеленая (с плесенью) зависть. Они подняли бунт! И вот тут Леонард не растерялся, обвинил их (совершенно справедливо!) в непрофессионализме и потребовал посчитать: за какое время каждый из них обработает одинаковое количество книг, присвоив им правильные шифры без ошибок. Да … лучше бы они на него не наезжали! Какое количество книг привлекли для участия в этом сражении я не знаю. Зато знаю, что Леонард обработал их за два часа, а все они … за две недели (!). Это стало известно всем в библиотеке. Как они пережили свой позор – мне неизвестно. Зато хорошо известно, что Леонард все последующие годы все так же на часик покидал свое рабочее место и отправлялся на свою часовую книжно-кофейно-коньячную прогулку по прекрасному Петербургу, на которую имел право только он – профессионал. А ещё Леонард очень любил леса. И хорошо их знал! Модель его комфортной жизни была чарующе проста: в будние дни любимая работа с книгами, вечерами дома – тоже среди книг. А по выходным – путешествия на электричке и потом на автобусах – в леса. Пешком по лесам прогулки длились несколько часов. Иногда небольшие пикники у костра. Потом позднее возвращение домой – снова к своим книгам. Вот такая интересная жизнь петербургского интеллектуала. Нет, он не напрягался с диссертацией. Это правда. Да, она ему была и не нужна! Это была комфортная профессиональная жизнь – жизнь «для себя».
ПУСТАЯ ЖИЗНЬ – жизнь ни о чём. Что это за жизнь? С кем она происходит? И как часто? И такая жизнь – норма или исключение? Вообще, строго говоря, свою собственную жизнь человек, как правило (если вывести за скобки непредвиденные катастрофы и катаклизмы), конструирует сам. В идеале он должен рано понимать свое предназначение, ставить цели и способы их достижения, чтобы реализовать свои способности, прикладывая при этом немалые усилия. Но А.Маслоу как-то был очень пессимистично категоричен (хотя его концепция как раз, наоборот, – очень даже оптимистична): всего только 1 % населения Земли, по его мнению, осуществляет в своей жизни самоактуализацию. А что 99 % ? Тут много сценариев: не знают кто они такие, не развиваются, легко адаптируются, порой виртуозно меняя профессии: туда – где выгодно, плывут по течению, ищут лёгких денег, пускаются во все тяжкие, ведут примитивный образ жизни (ненавистная работа – телевизор дома), постоянно ищут сексуальных и алкогольно-наркотических наслаждений. Когда мы путешествовали с мужем на машине (в основном, по Югу России) и по вечерам проезжали мимо небольших населенных пунктов, то мы видели одну и ту же картину – везде! – толпы шатающихся парней и девиц в поисках местных приключений. Я всегда недоумевала: неужели нельзя где-то вместе собираться, что-то интересно обсуждать … получать наслаждение от общения. НО – какого общения? Как-то в 90-е годы некоторые мои студенты СХИ рассказывали мне, как они в общежитии часто тусуются в комнатах по выходным (на праздниках они обычно уезжали домой). И вот однажды после таких выходных на занятии я неожиданно поинтересовалась: а о чём вы разговаривали? Этот простой вопрос поставил их в тупик. Потому что никто не помнил … о чём. Но они (после «напряженных» воспоминаний) нашли «достойное» объяснение – они же были … пьяные! И часто такое случается? – спросила я. Всегда по выходным. Так и хотелось ехидно спросить: а когда вы учитесь? Но не спросила. Я никогда не задаю вопросы, на которые знаю ответы.
* Как-то ко мне на консультацию пришла студентка с серьёзной проблемой: у неё никогда ни с кем не было серьёзных отношений. Близость бывает, но всё это по пьяни (Господи! – даже в Википедии посмотрела – как правильно пишется!) и … она потом ничего не помнит! Конечно, этот случай – не такое частое явление, зато пьяные тусовки в общежитии – норма. Дыхание останавливается от такой нормы! Как писал К.Ясперс в своем исследовании «Смысл и назначение истории» (1949; русск.1991) – это и есть включенность в МАССУ. И очень многие живут по нормам и законам массы. Стремятся к МОДЕ, аплодируют звёздам – из той же серии – это и есть ЖИЗНЬ МАССЫ. Правда, К.Ясперс сюда причисляет и ещё один признак массы – «мыслить ЧИСЛАМИ» – но это сейчас как раз – кредо современного мира!