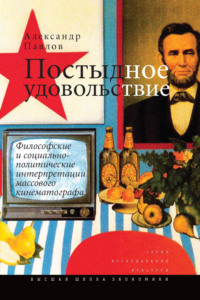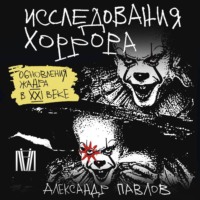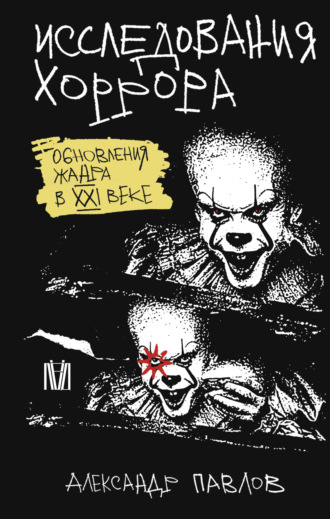
Полная версия
Исследования хоррора. Обновления жанра в XXI веке

Александр Павлов
Исследования хоррора. Обновления жанра в XXI веке
© А. В. Павлов, 2024
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2024
Введение
Совсем недавно, в 2010 году, составитель сборника «Американский фильм ужасов: жанр на рубеже тысячелетий» Штеффен Хантке был чрезвычайно встревожен тем, что несмотря на востребованность жанра две группы акторов (фанаты и критики/ученые) считали, что современный американский хоррор находился в глубоком кризисе (Hantke. 2010). Хантке писал, что дискурс двух этих групп (фанатов и ученых) «развивает гравитационную силу, которая притягивает к себе все, что находится вокруг. Те, например, кто находит определенные достоинства в конкретном фильме или режиссере, вероятно, увидят в своем открытии исключение из общей слабости [жанра. – А. П.], а не подтверждение того, что на самом деле американские фильмы ужасов сегодня так же важны, как и всегда. Следовательно, даже мнение, противоречащее риторике кризиса, в конце концов поглощается ею и превращается в очередное подтверждение ее основных положений» (Hantke. 2010. Р. xxiii). Далее Хантке сообщал, что представленные в сборнике под его редакцией эссе должны выправить эту риторику кризиса и недоверия к современным фильмам ужасов. Что произошло за это время? Ушла ли эта риторика кризиса? Была ли она вообще?
Спустя чуть меньше чем десять лет, в 2019 году, Саймон Бейкон, составитель сборника «Путеводитель по хоррору» издательства Peter Lang, писал: «…под влиянием того, что можно было бы назвать чрезмерной голливудизацией кино, фильмы ужасов продемонстрировали большую зависимость от CGI (компьютерной графики) и дорогостоящих спецэффектов. Это часто приводило к слишком большому влиянию того, что можно было бы назвать “атрибутами хоррора” – безвкусного повторения жанровых тропов и персонажей – и связанного с этим самосознания, которое видит рефлексивную, хотя и не обязательно изобретательную отсылку к более ранним текстам жанра» (Bacon. 2019. P. 5). Далее Бейкон так же, как и Хантке, сообщал читателям, что собранная им книга должна поправить сложившееся положение с хоррором, и все наладится. Немаловажно отметить, что, хотя это не заявляется в названии, сборник сосредоточен вокруг современного хоррора во всем его многообразии – фильмы, сериалы, литература, игры, комиксы и прочее. В целом обвинять хоррор в клишированности и саморефлексивности – не лучшая идея. Однако ученые с завидным упорством преодолевают «перманентный кризис» жанра.
Ирония в том, что у фильмов ужасов (а также у любых других медиумов, в которых представлен хоррор, – от литературы и комиксов до видеоигр) все хорошо. Голливудизация и саморефлексивность хоррора уж тем более идут лишь на пользу жанру. Возьмите, например, вселенную «Заклятие» («The Conjuring», 2013 – наст. вр., режиссер Джеймс Ван и др.), два тома «Оно» («It», 2017 и «It Chapter Two», 2019, режиссер Энди Мускетти) или «Крик» («Scream», 2022, режиссеры Мэтт Беттинелли-Олпин, Тайлер Джиллетт). Кому-то они могут не нравиться, но то, что это коммерчески успешные и высоко оцененные критиками и зрителями фильмы, очевидно. Хоррор давно стал легитимным предметом исследований в западной академии, сформировав целую дисциплину по исследованию хоррора (horror studies). Поклонники и фанаты рады тому, что происходит в индустрии, а критики – уж тем более. Если в 2000-е годы академических работ по данной теме было просто много, то с 2010-х годов произошел их беспрецедентный рост. Тем не менее на примере Хантке видно, что даже в 2010 году, когда хоррор, казалось бы, прочно вошел в сферу науки в рамках достойного для изучения объекта, ученым приходилось доказывать, что современные – а не только классические – фильмы ужасов имеют важное культурное значение. С 2010 года, когда Хантке бил тревогу в отношении рецепции хоррора двумя главными категориями его потребителей, многое изменилось. Хоррор процветает, а ученые забыли думать, что в далеком 2010 году велись разговоры о каком-то кризисе жанра.
Начиная едва ли не с 2010 года среди ученых исчезла массовая риторика кризиса хоррора и появились десятки и даже сотни монографий, сборников, журнальных статей, в том числе и профильных журналов как таковых: например, первый номер периодического издания «Horror Studies» («Исследования хоррора»)[1] – журнал, посвященный преимущественно кинематографу, но также видеоиграм, литературе и комиксам, – символическим образом вышел в 2010 году и все еще регулярно выпускается. Такое внимание со стороны академиков было обусловлено тем, что активно развивался сам жанр – возникли новые субжанры хоррора: пыточное порно (torture porn), найденная пленка (found footage) или циклы и кластеры хоррора типа мамблгор (mumblegore), фолк-хоррор (folk horror), скринлайф хоррор (screenlife horror), постхоррор (Church. 2021) и т. д. Вместе с ними появились новые игроки на рынке, например Blumhouse Productions и А24. Произошла серьезная переоценка того, что один ученый за десять лет до высказывания Хантке про риторику кризиса назвал «макдональдизацией хоррора», имея в виду тенденцию к франшизации (Wells. 2000. Р. 93). Так, многочисленные франшизы, сиквелы, ремейки, приквелы, реквелы, премейки, адаптации, реадаптации, легасиквелы хоррора и прочие формы обновления стали легитимным предметом изучения среди академиков (Horror Franchise Cinema. 2021; Mee. 2022; Spiegel. 2023). Можно сказать, что сегодня у хоррора все хорошо и даже лучше, чем когда-либо.
Ученые едва успевают писать книги про хоррор. За последние несколько лет были открыты специальные книжные серии. С 2011 года в Издательстве Ливерпульского университета выходит важнейшая серия «Адвокаты дьявола» («Devil’s Advocates»), в которой публикуются монографии, посвященные конкретным фильмам – как классическим, так и самым современным. К 2022 году в серии вышло больше 60 томов. В Издательстве Чикагского университета существует серия «Исследования хоррора» («Horror Studies»)[2], в рамках которой с 2019 года вышло 18 книг. В издательстве Rowman & Littlefield существует серия «Лексинтонгские книги об исследованиях хоррора» («Lexington Books Horror Studies»), в описании которой сказано, что редакторов «особенно интересуют критические подходы к ужасам, в которых исследуется, почему хоррор является столь распространенной частью культуры, почему он находит такой живой отклик у зрителей, и что его популярность говорит о человеческих культурах в целом. С этой целью серия будет охватывать широкий спектр периодов, движений и культур, имеющих отношение к исследованиям ужасов»[3]. В серии вышло больше 15 книг, но работы про хоррор в издательстве публикуются и вне рамок «Lexington Books Horror Studies». Отдельные серии про хоррор существуют и у других ведущих университетских издательств, например «Исследования хоррора и монструозности» («Horror and Monstrosity Studies Series») Издательства университета Миссисипи[4] и «Хоррор и готическая медиакультура» («Horror and Gothic Media Cultures») Издательства Амстердамского университета, которая фокусируется на влиянии технологических, промышленных и социально-исторических контекстов на стиль, форму и эстетику жанров хоррора и готики в различных медиа[5]. В Издательстве Эдинбургского университета организована серия «Хоррор XXI века» («21st Century Horror»). В описании проекта сказано: «Книги этой серии будут связаны друг с другом концентрацией на хорроре в XXI веке и будут использовать ряд теоретических и методологических подходов для освещения различных аспектов продолжающегося социального, культурного, политического, промышленного и эстетического значения жанра в новом тысячелетии. Соредакторы приветствуют предложения от признанных и начинающих ученых в области исследований хоррора, сосредоточенных на любом аспекте жанра после 2000 года»[6]. При этом в Издательстве Эдинбургского университета вне данной серии вышло множество книг про хоррор, в том числе про то, как жанр чувствует себя в новом тысячелетии. Речь только о сериях. Вообразите себе, сколько научных работ в разных издательствах вышли независимо.
Если учесть, что существует такой интерес к хоррору со стороны ученых, сложно представить, насколько бурно и активно развивается сам жанр. Здесь я должен предупредить читателей, возможно, разочаровав их: моей целью не является описание того, что происходит с хоррором как жанром в настоящий момент, мой интерес в другом. Имея в виду все сказанное, меня прежде всего заботит, что и как говорят современные ученые об ужасе в новом тысячелетии. Тем самым моя книга имеет несколько ограничений. Во-первых, как таковые фильмы, сериалы и игры в жанре хоррор, хотя о них также пойдет речь, являются вторичными по отношению к эмпирической базе. Во-вторых, как следует из названия, меня интересует то, как жанр развивается в XXI столетии. В-третьих, я обращаюсь главным образом к академическим исследованиям хоррора, потому что это может многое рассказать нам о нынешнем состоянии гуманитарной науки на Западе и поможет понять многое из того, что нас интересует в культуре хоррора – очевидно, что некоторые ученые, поглощенные областью исследования, разбираются в узких темах лучше, чем я. В-четвертых, как станет видно, книга ограничена американским материалом, но это потому, что все самое важное в хорроре пока что производится в США (так, даже ученые из Турции, исследуя современный хоррор, ограничивают свою книгу только американским хоррором (Nightmares of Contemporary Horror Cinema. 2024)), а, кроме того, национальные традиции хоррора в кино, о чем пойдет речь в книге, нуждаются в самостоятельном исследовании. То есть это тема для новой работы.
Исследований хоррора стало так много, что только про ужасы в XXI столетии за последние пару лет вышло несколько важных коллективных сборников эссе. Поскольку эта книга преимущественно про другие книги, бессмысленно называть все то, что использовано в работе. Здесь я просто перечислю несколько новейших «коллекций эссе» по теме моего исследования, чтобы подтвердить, насколько актуальна тема: «Нежить в XXI веке. Путеводитель» (The Undead in the 21st Century. 2022), «Эволюция хоррора в XXI веке» (The Evolution of Horror in the Twenty-First Century. 2023), «Грядущее фолк-хоррора. Современные тревоги и возможные варианты будущего» (Future Folk Horror: Contemporary Anxieties and Possible Futures. 2023), «Современный хоррор на экране» (Contemporary horror on screen. 2023), «Готика и американская популярная культура XXI века» (The Gothic and Twenty-First Century American Popular Culture. 2024), «Горе в современном кинематографическом хорроре» (Grief in Contemporary Horror Cinema. 2023) и вышеупомянутые «Кошмары современного хоррор-кинематографа» (Nightmares of Contemporary Horror Cinema. 2024). Кроме сборников выходят и индивидуальные монографии, например «Апокалипсис нежити. Зомби и вампиры в XXI веке» (Abbott. 2016). Особого упоминания заслуживает книга «Метамодернисткий слэшер» (Jones. 2024). Во-первых, это именно монография, а не сборник статей. Во-вторых, ее автор Стив Джонс выгодно отличается от подавляющего большинства исследователей темы. В то время как многие следуют конвенциональным методологиям (психоанализ, гендерный анализ, постгуманизм и т. д.), а также известному эмпирическому материалу (количество статей про фильмы «Прочь» («Get Out», 2017, режиссер Джордан Пил) и «Солнцестояние» («Midsommar», 2019, режиссер Ари Астер) зашкаливает), Джонс очень хорошо осваивает именно эмпирический материал и вместо того, чтобы в очередной раз обсудить психоанализ и гендер, пытается применить инновационную теоретическую оптику анализа, пусть бы это был и метамодернизм. Его книгу, в отличие от многих других, можно читать в том числе и затем, чтобы узнать про множество не самых известных фильмов ужасов, хотя далеко не все из них высокого качества.
Поскольку моя книга про научную литературу, которую не представляется возможным описать всю, в некоторых главах я строю повествование вокруг одного академического источника, но, конечно, им дело не ограничивается. Логика книги следующая. О том, что я хотел сказать во введении, вы уже прочитали. В первой части речь пойдет о краткой истории хоррора. Далее набросаю в штрихах картину того, как экспоненциально развивались исследования хоррора. Поскольку во второй главе первой части говорится о теоретических подходах к жанру, следующей главой становится попытка теоретизации хоррора посредством обращения к геймплею – насколько видеоигры ушли далеко от фильмов и как работают адаптации видеоигр на больших и малых экранах. Вторая и третья части посвящены ключевым тенденциям хоррора XXI века. Я называю их «Обновления» (вторая часть) и «Инновации» (третья часть). «Обновления» – это буквально обновления существующего хоррора. Первая глава второй части – про актуальные ремейки: она выстроена вокруг монографии Лауры Ми, а в качестве иллюстрации сложного (п)ремейка культовой классики я привлекаю картину «Нечто» («The Thing», 2011, режиссер Маттис ван Хейниген-младший). Вторая глава посвящена хоррор-франшизам; ее академическая основа – сборник статей под редакцией Марка Маккены и Уильяма Проктора. Третья глава – конкретный кейс, посвященный тому, как (ре)адаптируются культовые книги, у которых уже есть культовые адаптации. В качестве иллюстрации я взял книгу Алиссы Бергер про дуологию «Оно» (2017, 2019). В третьей части – «Инновациях» – речь идет о новых субжанрах хоррора нынешнего тысячелетия – академическая мода на фолк-форрор, анализ «Хижины в лесу» («The Cabin in the Woods», 2012, режиссер Дрю Годдард) как примера метахоррора с опорой на исследование Сюзанны Корд, вышедшее в серии «Адвокаты дьявола», а также рассуждение о постхорроре, основу для чего составила одноименная книга Дэвида Черча. Четвертая часть – «политическая». В первой главе рассказана история, как долгая академическая традиция поиска политических аллегорий в хорроре сменилась прямыми политическими высказываниями в фильмах ужасов, с акцентом на франшизе «Судная ночь» («The Purge»). Во второй главе на примере всех реинкарнаций культового сериала «Сумеречная зона» («The Twilight Zone») показано, в чем разница между политическим оригинальным шоу и версией, созданной Джорданом Пилом. Наконец, в главе про постзомби речь идет о популяризации и политическом потенциале философских теорий постгуманизма[7]. В заключении обрисованы перспективы дальнейших исследований темы, потому что в этой книге я не сказал и трети того, о чем собирался написать.
Часть I. История и теория
Глава 1.1. Краткая история хоррора
Хоррор (horror film – «фильм ужасов», «ужасы») – один из наиболее популярных жанров кинематографа. В самом общем виде под фильмами ужасов (хоррорами) может подразумеваться кино, которое посредством изображения монстров (вампиров, зомби и проч.), технических приемов (джампскейра) или нагнетания тревожности (аффекта) стремится вызвать определенную реакцию зрителей. Как правило, такой реакцией может быть страх, испуг, шок, отвращение, тревога и т. д. Данное понимание хоррора должно быть сбалансировано тем, что многие фанаты жанра испытывают от фильмов ужасов удовольствие (Hills. 2005), которое сводится не только и не столько к стремлению получить названные эмоции, но и связано с эстетическим и интеллектуальным наслаждением: фанаты знают авторов, работающих в жанре, традиции изображения монстров, отмечают новизну фильмов и т. д. (Kendrick. 2009. P. 82). Хоррор объединяет в себе большое количество субжанров. Субжанров фильмов ужасов так много, а некоторые из них настолько сильно отличаются друг от друга и настолько популярны сами по себе (например, слэшеры (slasher) или фильмы о зомби (zombie movies)), что ужасы в целом (horror) могут считаться метажанром, т. е. зонтичным термином для множества иных терминов, с помощью которых описываются конкретные циклы фильмов с похожими характеристиками. Ввиду указанной размытости понятия «хоррор» сложно говорить об одном знаменателе, т. е. единой сущности всех субжанров хоррора как монолитного жанра кинематографа.
Слово «хоррор» закрепилось за фильмами, вызывающими страх и отвращение, около 1932 года, когда критики стали описывать данным термином картину «Дракула» («Dracula», 1931) режиссера Тода Браунинга. Тем не менее фильмы ужасов существовали с момента изобретения кинематографа, а сами истоки киножанра усматривают в литературных традициях (например, в готическом романе) или в других формах культуры (в частности, спектакли парижского театра ужасов «Гран Гиньоль»). На протяжении всей истории существования жанра разные критики и ученые пытаются не столько оспорить термин, сколько предложить новые слова, помогающие описывать инновации в хорроре, например: страх (terror), антихоррор, метахоррор, боязнь (dread), нехоррор (unhorror), постхоррор (post-horror) и т. д. Особенно важно в научной литературе различие терминов «страх» (terror) и «хоррор» (horror), которые, как правило, на русский переводятся одинаково: «ужас». Первый нередко используется в названиях фильмов ужасов, например: «Истории ужасов» («Tales of Terror», 1962, режиссер Роджер Корман), «Террор» («Terror», 1963, режиссеры Роджер Корман, Фрэнсис Форд Коппола, Монте Хеллман, Джек Хилл и др.), «Трилогия ужаса» («Trilogy of Terror», 1975, режиссер Дэн Кертис) и т. д. Хотя оба термина могут рассматриваться как синонимы, считается, что страх (terror) представляет собой возвышенный ужас, в то время как хоррор относится к низменному, телесному и т. д. С точки зрения некоторых исследователей, страх (terror) является нематериальным и не поддается определению, в то время как хоррор определяется через его материальную природу (Cavallaro. 2002. P. 2). Отчасти поэтому за кинематографом, в котором обычно страх связан с монстрами, отвращением и убийствами, закрепилось именно слово «хоррор», так как в течение долгого времени данный жанр считался не соответствующим стандартам высокого искусства, а также часто обращался к телесности, в связи с этим даже возник отдельный субжанр – телесный ужас, или боди-хоррор (body horror).
Среди субжанров хоррора можно выделить следующие: слэшер, или сплэттер (splatter), фильмы о монстрах (monster movies), кино о вампирах (vampire movies), фильмы о зомби, телесный хоррор, эко-хоррор (eco-horror), готика (gothic), сверхъестественный хоррор, или мистика (supernatural horror), постхоррор, найденная пленка (found footage), пыточное порно (torture porn), фолк-хоррор (folk horror) и т. д. Всем этим субжанрам ныне посвящены отдельные научные исследования. Хотя наиболее известные фильмы ужасов были сняты в США и для общего названия хоррора в кино стал использоваться английский термин horror, данный жанр был востребован и в кинематографе других стран (Великобритании, Японии, Франции, Италии, Гонконге, Таиланде, Австралии, Канаде, Норвегии и т. д.); в некоторых странах даже появились уникальные национальные субжанры хоррора, например джалло (Kannas. 2021) и фильмы о каннибалах в Италии. Ввиду мировой популярности японских фильмов ужасов в конце XX – начале XXI века появился особый термин: J-horror (японский хоррор). По аналогии с ним и музыкальным направлением K-pop был введен в широкий оборот термин K-horror (корейский хоррор).
Некоторые фильмы, сделанные в СССР, могут быть описаны как фильмы ужасов. Например, «Вий» (1967, режиссеры Константин Ершов, Георгий Кропачев) подпадает под субжанр фолк-хоррор. Хотя в постсоветской России были попытки снимать фильмы ужасов («Прикосновение», 1992, режиссер Альберт Мкртчян; «Упырь», 1997, режиссер Сергей Винокуров), их относительно массовое производство началось с середины 2000-х годов. Среди первых картин могут быть названы «Ночной дозор» (2004, режиссер Тимур Бекмамбетов), который скорее относится к жанру фэнтези, но имеет элементы хоррора, а также «Жесть» (2006, режиссер Денис Нейманд), «Мертвые дочери» (2007, режиссер Павел Руминов) и т. д.
Некоторые исследователи заявляют, что «никакое определение фильма ужасов не может быть абсолютным» (Booker. 2022). Поэтому чтобы получить наиболее корректное представление о жанре, лучше всего рассматривать его исторически. Несмотря на то, что хоррор занимает важное место в истории определенных национальных кинематографий, для многих авторов жанр ассоциируется прежде всего с США (Booker. 2022). Что справедливо, поскольку фильмы ужасов повсеместно обозначаются английским словом horror, а историю жанра чаще всего описывают именно через эволюцию американского кино (Скал. 2009). Некоторые авторы, основывая историю хоррора в основном на американском материале, также рассказывают о британских, итальянских и других картинах (Dixon. 2010). Исследователи, рассуждая об истории жанра, выделяют два «золотых десятилетия» хоррора: 1930-е и 1970-е годы, концентрируя внимание на данных периодах (Booker. 2022). Другие предлагают более полную периодизацию развития жанра. В частности, У. У. Диксон называет пять этапов эволюции жанра: истоки (1896–1929), классика (1930–1948), возрождение (1949–1970), новая кровь (1970–1990) и будущее (с 1990 года) (Dixon. 2010). На этапе, получившем название «новая кровь», фактически сформировались фильмы ужасов в таком виде, какими их знают современные фанаты и более широкие категории зрителей, – именно тогда появились первые авторы, которые создали облик современных фильмов ужасов, а также появились картины, ставшие основой для многочисленных ребутов, ремейков и т. д.
Ранними примерами хоррора могут считаться фильмы Жоржа Мельеса «Заколдованная гостиница» («L’Auberge ensorcelée», 1897) и «Явление» («Le revenant», 1903), а также «Франкенштейн» производства компании Томаса Эдисона («Frankenstein», 1910, режиссер Дж. Сирл Доули). В плане высокого искусства корни хоррора восходят к немецкому экспрессионизму, наиболее яркими представителями которого являются «Кабинет доктора Калигари» («Das Cabinet des Dr. Caligari», 1920, режиссер Роберт Вине) и «Носферату. Симфония ужаса» («Nosferatu, eine Symphonie des Grauens», 1922, режиссер Фридрих В. Мурнау) (Скал. 2009. С. 34–61). Здесь же может быть названа картина «Голем, как он пришел в мир» («Der Golem, wie er in die Welt kam», 1920, режиссеры Пауль Венегер, Карл Бозе), ранние версии которой – «Голем» («Der Golem», режиссеры Пауль Венегер и Хенрик Галеен) и «Голем и танцовщица» («Der Golem und die Tänzerin», режиссеры Пауль Венегер, Рохус Глизе), снятые в 1914-м (или 1915-м) и 1917 годах соответственно, – не сохранились. В других странах также выходили фильмы, ставшие важными для формирования и развития жанра, например «Ведьмы» шведско-датского производства («Häxan», 1922, режиссер Беньямин Кристенсен).
В США хоррор становится популярным с середины 1920-х годов. Одним из этапных фильмов жанра этого периода считается «Призрак оперы» («The Phantom of the Opera», 1925, режиссер Руперт Джулиан). Первоначальная востребованность хоррора привела к появлению целого цикла студийных картин о монстрах в начале 1930-х годов. Главным образом хорроры производила компания Universal Pictures, создавшая собственную вселенную монстров (Horror franchise cinema. 2022. P. 29–50; de Bruin-Molé. 2022. P. 3–20). Основополагающей лентой в этом корпусе фильмов ужасов считается «Дракула» («Dracula», 1931, режиссер Тод Браунинг), за которым последовали «Франкенштейн» («Frankenstein», 1931, режиссер Джеймс Уэйл), «Мумия» («The Mummy», 1932, режиссер Карл Фройнд) и «Старый страшный дом» («The Old Dark House», 1932, режиссер Джеймс Уэйл). Актеры Бела Лугоши, сыгравший Дракулу, и Борис Карлофф, исполнивший роль монстра Франкенштейна, на несколько десятилетий стали звездами жанрового кино, преимущественно хоррора и научной фантастики. В целом в период с 1931 по 1948 год студия Universal Pictures доминировала в плане производства фильмов ужасов не только в США, но и во всем мире (Dixon. 2010. Р. 25). На тот момент хоррор не был посвящен исключительно вымышленным монстрам. В 1931 году в Германии вышла картина «М убийца» («M – Eine Stadt sucht einen Mörder», режиссер Фриц Ланг) про одержимого маньяка.
В то же время компания Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) выпустила на момент начала 1930-х годов скандальный фильм «Уроды» («Freaks», 1932, режиссер Тод Браунинг), а Paramount Pictures – знаковые киноадаптации: «Доктор Джекилл и Мистер Хайд» («Dr. Jekyll and Mr. Hyde», 1931, режиссер Рубен Мамулян) и «Остров потерянных душ» («Island of Lost Souls», 1932, режиссер Эрл К. Кентон). Параллельно с этим снимались ленты независимых студий, в итоге оказавшие влияние на становление жанра («Белый зомби» («White Zombie», 1932, режиссер Виктор Гальперин)), а также выходили картины, сегодня не ассоциирующиеся с жанром хоррор, но подпадавшие под это понятие на тот момент, например «Кинг Конг» («King Kong», 1933, режиссеры Мериан Купер, Эрнест Б. Шедсак). Несмотря на то, что сегодня эти фильмы не выглядят страшными и считаются наивными с точки зрения спецэффектов или содержания насилия, в историческом контексте данные картины не только пугали зрителей, но и вызывали многочисленные протесты как со стороны критиков, так и со стороны обеспокоенной общественности (Скал. 2009).