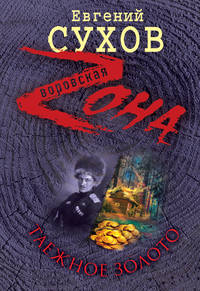Полная версия
Из невозвратной стороны
Нужна передовой советской молодёжи навязанная прогнившим Западом мода?! Нет.
– Как ты пережила это?!
– Героически. Героиней стала. Оказывается, как написали в «Молодёжной газете», всё было не так: «Просто на колесе обозрения девушке стало плохо от высоты, а тут эта мерзкая юбчонка (тут они были согласны с тем, что Запад оказывает на нас тлетворное влияние) задралась. Девушка почувствовала себя ещё хуже и, почти теряя сознание, как истинная комсомолка, член горкома, всё-таки взяла себя в руки и, чтобы не испортить отдых трудящейся молодёжи, через силу удержалась на высоте и сделала всё как нужно, проявив настоящую сознательность и героизм. Есть место подвигу в простой жизни!» Вот так – и не иначе. И мой портрет с горящим взором. И я стала комсомолкой-героиней. Почти героиней. Вот с кого надо пример брать.
А я и не догадывалась об этом. Не знала, как вести себя, и старалась поменьше выходить из дому. Не оправдала надежд газеты.
– Вот подружки, наверно, завидовали, – сказал я.
– Ещё как! Трусикам и супер-дрюпер юбчонке. У меня было такое, а у них нет. Всё забугорное! В кружевах. Как тут не завидовать?! А ещё всё продемонстрировала на высоком подиуме, выше некуда. Тоже мне, модель с небеси!
– Хорошо. Много и сразу.
– Это было слишком. Но я начала кое-что понимать. Что есть жизнь, и она другая, не такая, как в книгах.
– Надо ж! Никогда не думал, что малая часть туалета может быть столь важной.
– Для женщин – важнейшая деталь. А для многих – судьбоносная. Особенно если её снять вовремя и умело. Я умела. Но и стихи сочинять умела, так я, во всяком случае, думала.
И во всём находила поэзию. Откуда берётся поэзия? Ниоткуда. Она существует сама по себе и вечно.
– Где?
– В шуме ветра, в воде, звёздах, дожде, в падении листьев. Даже один листочек, падая, издаёт свой звук. Надо только услышать его. А ещё во взгляде, прикосновении…
Ритм, рифма, музыкальность, образность… Надо только увидеть, услышать. Очень немногие видят и чувствуют. А ещё меньше могут это отобразить. А рифмовать – дело нехитрое. Все могут.
– Мудрёно, – сказал я.
– А ты как думаешь?
– Это мы не проходили, это нам не задавали. Может, мульён лет назад кто-то сказал кому-то:
Сиськи у тебя – во!Заросли волосьем!А булыжник, что тебе подарил,Я им соседу голову проломил,Чтоб не лапал, гад,Твой аппетитный зад.Зад твой бел, как луна,Хочу я только тебя.И не пойти ль нам туда,Где течёт река,Где жратвы полно?А может, туда, сам не знаю куда.– Я рвалась туда, знала куда: «В сады поэзии святой. Увижу ль вас, её светила?» Они были там, на Олимпе, где их творят, издают.
И они гремят на стадионах. И наконец! Счастье привалило: была приглашена к нему! Самим! На вечера которого ломились так, что приходилось ломившихся конной милицией обламывать. Как я не двинулась, не знаю. Но головку потеряла.
– И полетела.
– Что ты! Я уж теперь поэтесса. Раз пригласил туда, я должна явиться в «сады поэзии святой» этакой… поэтессой такой. Но как?! Как одеться… или раздеться? Во что…
– Раздеться?
– Даже и этого не было. Так я считала. Я плохо соображала и начала рыться в сундуках, которые отродясь не отмыкали. И нарыла кое-что из прошлого. И из нарытого сотворила… Вот я в кружевном платье (из шалей и скатерти девятнадцатого века), в туфельках начала века двадцатого! А какие на мне перстни с каменьями! Серебряные, начала девятнадцатого века. А причёска!
Такая милашка в шляпке с вуалью. И, конечно, бледное лицо, горящий взор – именно взор! – и яркие губы.
Что стоило это моей семье, подругам! Не описать. Но зато я выглядела настоящей поэтессой начала двадцатого века.
Так я надеялась.
А как провожали!.. В неведомое! И оттого как в последний путь. С цветами, слезами. И пирожками в корзиночке. А я одна в купе.
Совсем не вагонная, с глазами на пол-лица. И все смотрят на меня… Как-то не так, странно. Странно видеть людей, смотрящих на поэтов так. Мы же поэты! И что они находят в нас странного?
А вот солнышку было не странно, как поэт в «Сады поэзии святой» под стук колёс или сердца стремится. И оно провожало меня по полям, лугам, верхушкам деревьев, вместе со мной катилось в «Сады поэзии святой». Солнышко понимало меня и старалось успокоить красно-сиреневатое небо… и приглашало первые звёзды на ещё светлую высь. И они начали приходить оттуда, где небо тёмное, синее. А самые смелые – и в светлой полосе неба. Это солнышко, уходя, зажигало их.
Вот так и поэтов кто-то должен зажечь, чтобы они светили долго. А лучше бесконечно. И меня зажгут, надеялась я. И не сомневалась, что ОН сделает это и я буду светить, пусть и самой маленькой звёздочкой, в «Садах поэзии святой».
Мне нравились звёзды на ещё совсем светлом небе. Они были весёлыми, чистыми и молодыми. Как и я. Я любовалась ими. И мне было чисто и весело вместе с ними. И я начала рассказывать им, что готова ради поэзии на любые баталии. Непременно баталии и…
«Если ранят меня в справедливых тяжёлых боях, забинтуйте мне голову полевою дорогой…» Дальше я не могла читать замечательные стихи, слёзы душили от мысли, что меня могут ранить. Но в справедливых боях. Всё замирало внутри. Главное – в справедливых, тяжёлых… поэтических, естественно.
А в изголовье будут стоять товарищи по поэзии и ОН. А я, бледная, не буду стонать. Это была честная борьба. Всякое бывает. Вернее, я приняла основной удар на себя. Я глубоко верила, что в поэзии всё только справедливо, благородно и честно. Но это впереди, до этого ещё надо добраться. А пока я стуком сердца подгоняла колёса экспресса.
(Правда, это был не экспресс. Они на нашей станции не останавливались. Почтовый – товарный. И купе в общем вагоне. Просто в нём никого не было.) Тем более надо было помогать колёсам. И они стучали всё громче, особенно тогда, когда состав отходил от очередного полустанка.
Мне так хотелось поговорить с кем-то…
– В звёздных мирах наши души летают – это я о нас, о поэтах, – сказала я звёздочкам.
– Молодец! Иди к нам! – ответили звёзды переливающимся светом.
Или мне показалось. Я опустила окно. Нет, не показалось, они приглашали меня к себе.
– А как же «Сады поэзии святой»? Этот рай для поэтов?
– Ну, подружка! Тут выбирай: или рай, или к нам взлетай.
Я растерялась:
– А можно я сначала к нему?
– А к нам когда?
– Не знаю.
Звёзды рассмеялись лучиками. Все. И я с ними.
– Какие же вы, земные женщины! Непременно сначала к нему!
– Я ещё не женщина. Я не знаю, как быть женщиной.
– Быть женщиной прекрасно. Станешь – расскажешь.
– Обязательно. Но как?
– Стихами. Лучше поэзией. Только не нуди и не страдай. Не раздирай в кровь женское. Поэтки горазды на это. Даже неплохие. Хлебом не корми, дай повыть, страдая. Поэтому их мало среди поэзии. Поэзия – мужское дело.
– А тогда почему поэзия – ОНА?
Даже звёзды не могли ответить, почему поэзия – ОНА, если это мужское занятие!
– Может, потому, что мы тонко чувствуем. Ощущаем более эмоционально.
– Как знать. Вот если б вам поменьше страдать… Страдания – не поэзия.
– И о чём тогда писать?
– О том, что люди не замечают, плохо чувствуют. О тонких мирах. И так, чтобы и читающий чувствовал то же самое. О мимолетностях. «Звезда с звездою говорит». Только поэты понимают язык звёзд.
Я начала волноваться и говорить всё громче. Прибежала проводница:
– Девушка, у вас всё в порядке?
– Да.
– А… а… а! Я думала, пристаёт кто. Всякое бывает в наших поездах.
– Всё хорошо. Это я с подружками разговаривала, со звёздами.
– Ну да… да, но… Я-то подумала… Спокойной ночи. И окно не забудьте закрыть, когда разговаривать закончите.
Подружки залились в вышине ярким смехом. А проводница скорее-скорее в своё купе и закрылась на ключ. Даже чаю не предложила.
– Ты мысленно говори с нами. А то не добраться тебе до Садов. В другие попадёшь. Оденут в халат «от кутюр» с длинными рукавами, которые на спине завяжут.
– А что я такого делаю?
– То, что у тебя того не того. Так проводница подумала. И справедливо. Вот сама посуди: нормальные люди могут говорить со звёздами?!
– Я нормальный поэт. Мы умеем говорить со звёздами. Фантазировать. И в чём я виновата?
– В том, что говоришь с тем, с кем говорить невозможно. Говорящих нас нет.
– А для меня есть. И ваши души чистые, светлые, как поэзия, как поэты.
И правда, какое чистое, прекрасное сияние! А исходит от ада внутри звёзд. От неба, лугов, трав и цветов неслась душа туда, где шум и суета. Но и туда, где поэзия была. На Олимп.
И в непонятном, прекрасном городе в метро с его грохотом, молнией, прилипшими телами, духотой.
– Вы выходите?
– Да.
И туда, где на самом верху ждёт звезда, что светила всегда!
– Я вас такой, только такой и представлял! – воскликнуло светило.
– Какой? – пролепетала я.
– Сияющей. Вам непременно надо взять псевдоним. Непременно! Вы сияете. Вот такой должна быть настоящая поэзия. Сиять! – И он выключил свет. – Вы осветили мою монашескую келью.
В наряде из материи девятнадцатого века, с корзиночкой пирожков в руках. Я излучала свет? Возможно. Или свет шёл от статуэтки сидящей обнажённой девушки на огоньке, который он зажёг. И дурманящими благовониями заполнился кабинет. Как чудно пахла поэзия! И как чисто светилась она!
Помутнело в головке, и залепетала я о поэзии, о садах. Когда кругом цветы разные, прекрасные – это поэзия. И даже в цветах – стихи китайских поэтесс X–XII вв. до н. э. Из столетий, тысячелетий раздаются их голоса. Только умей слышать слов связующую нить. Лишь музыка любви в словах и память яркая в цветах. И всё старо, как и века, и так же остро и свежо. И вновь вернулась красота. И от этого в садах поэзии дышится легко и радостно. Всем! А из фонтанов – музыка. Струи воды как инструменты оркестра.
Есть маленькие, тихие фонтанчики – это камерные оркестры. А птицы – солисты. Кругом цветы поэзии святой.
– Да, да! – Он увлёк меня на диван.
И я утонула в кожаном комфорте и его объятиях. В объятиях поэзии. Он нашёптывал мне о поэзии и всё крепче прижимал к себе:
– Я читал ваши стихи, они наивны и прелестны. Они заслуживают того, чтоб увидеть свет.
Сердце у меня перестало биться. А он всё более вдохновенно говорил о чистоте и возвышенности поэзии.
О, это чудное мгновенье!Передо мной явилась ты!Какое сладкое видение!О! Это просто наслаждение,Когда передо мною ты!– Помнишь, как писал наше Всё? И было б непозволительно, кощунственно повторять то, что он так возвышенно… Нет-нет, я недостоин этого…
А потом! Что было у нас, между нами потом… Он обессмертил меня.
– Ты хочешь, чтобы я обессмертил тебя? Так же.
И он продолжал шептать. Я не знала, что было «потом» и чем он меня обессмертил, но прошептала. Вернее, простонала:
– Да…
– И я это сделаю, ты будешь гордиться этим всю жизнь и рассказывать…
Он продолжал нашёптывать о высоком, о чём-то поэтичном и гладить колени. Всё выше и выше ползла его рука и добралась до трусиков:
– О! Какие у вас тонкие, изящные кружева. Божественно!
Только эстет-поэт мог определить качество.
И он стал стягивать трусики, прерывисто дыша и вдохновенно бормоча:
Падают снега́, снега́.Превращая снега́ в кружева.И забуду я о сне́гах, снегах,Я весь там – в кружевах, в кружевах.Помогу тебе издать…
Лучше снять…
Назовём сборник так:
«Треугольная пена кружев-труселей».
И было непонятно, то ли снять трусики, то ли издать «Треугольные трусики».
– Я помогу тебе вступить в Союз поэтов. Мы и там будем рядом. Вспомни, как у нашего Всё с Керн было… Это сама поэзия в высочайшем проявлении жизни.
Он всё старался снять трусики, потел, но у него не получалось. И он попытался перекусить резинку зубами.
– От вас пахнет, – сказала я.
Сознание возвращалось ко мне поэзией!
– Как точно вы подметили, – сказал он.
Но от него просто пахло. Как в метро в часы пик.
А на кончике носа висела капелька и блестела. Я наконец поняла, что он хочет.
– Впервые классику, поэту, я на диване рада дать, – прошептала я ему на ухо.
Хресть по роже! И рассекла её поэтическими перстнями с каменьями девятнадцатого века.
Пригодились, помогли не замараться.
Пролилась кровь.
Я вскочила и рванулась к двери, но упала – спущенные трусики мешали.
Я сняла их и швырнула на окровавленную рожу. И заморское чудо покраснело от стыда и крови.
Он не двигался.
Прям как на дуэли сражённый. Такие теперь дуэли.
Я шла по улице и бормотала: «Увижу ль снова ваши сени, Сады поэзии святой?! Увижу ль вас, её светила?»
А ведь сама из садов сбежала, оставив божественные кружева. Все обращали на меня внимание, так мне казалось.
И всё время оправляла подол и держала корзиночку с пирожками ниже живота. Я думала, что все видят, что я без «ничего».
Мне было… Не передать, как мне было.
У меня цвет лица был зеленоватый от мысли: все видят, что внизу. Вернее, ничего. И все видят. А если нет, то что тогда так пялятся? И я искала магазин, где можно купить и закрыть это «ничего».
Не находила, металась, а спросить боялась почему-то.
– Деточка, что вы ищете? – спросила дама.
Я решилась и сказала что.
– Голубушка, вы перед ним стоите. А вы что, свои как сувенир кому оставили?
Тоже мне, столичный юмор.
И я вбежала в магазин и купила, и не хуже, чем на лике классика оставила. Тут же в примерочной и надела. И поплыла, источая сияние, к кассе. Кассирша взяла этикетку и спросила:
– А где товар?
– На мне.
– Покажи.
– Здесь?
– Можно и в милиции.
И я задрала платье.
– Да вы что? Вот провинция, шуток не понимает.
Я поставила корзиночку с пирожками на пол и полезла в лифчик за кошельком.
– А что в корзиночке? – спросила кассирша.
– Змеи.
Её выбросило из кассы.
– Во Москва задрипанная – шуток не понимает.
И мы подружились с Верой и её подружками.
Сидим пьём чай.
А из нашего окна Москва древняя видна.
До чего гожо-то!
Не могу наглядеться.
Слов не могу подобрать, захлёстывает меня всё.
Не ровен час, и улететь смогу…
– Хочешь винца сухенького? – спрашивает Вера.
И я подставляю блюдце, чтобы насыпала. А она в рюмку наливает.
Но мы тоже не лыком шиты: я беру рюмку и ставлю на блюдце. Чтобы не пролить на скатерть. Но девочки поняли и смеются. Хорошо так. И я с ними.
– А вы там что пьёте?
– У нас первач на малине, смородине, землянике, душице, зверобое, смородинных почках, из яблок, на коре дубовой коньяк, грушовка, вишнёвка…
– С ума сойти! И ты всё это пробовала?
– Пробовала? Ха! Пью… стаканами.
Девочки рты открыли и закрыть не могут. Как парализовало их.
– Молоко парное.
Они ожили и покатились со смеху:
– Луговушка ты наша самогонно-молочная! Тебя в Москву надо. Жаль, так с классиком будущим получилось.
– Дать надо было умело. Ты умеешь умело?
– Я…Я…
– Не пробовала ещё!
И девочки начали рассуждать об «умело дать». Это, если судить по их авторитетным мнениям, искусство. Даже высокое. У них это получалось не грязно. Забавно даже. Начитались, что ли?..
– Бабы, а кто умеет это делать так, как говорим? – спросила Вера. – Только честно.
Все замолчали.
– Я нет.
– И я.
– И я.
– НИИ «Умело дать», – сказала я.
– И не залетать.
– И тут же взять от того, кому дать.
– И поболе, – сказала я.
– Вот ты могла бы взять поболе. Такого жирненького карася упустить – потеря невосполнимая. Сам на крючок шёл.
– При такой-то фактуре!
– Эх! Мне бы такую. Я уж подцепила бы карася.
– Да хоть карасика.
И все вздохнули. Театрально так. И я за компанию. И стали представлять, что могло бы быть… Тут и квартира, и домработница, даже две или четыре.
И курорты наши, и забугорные, и… На этом фантазия скуднеть, заедать стала.
Оно и понятно. Вот если б нашего самогона на ягодках настоянного стаканчик, тогда… Ух, что б могло быть! А тут сухонькое. И то только губы смочили, по рюмашечке с напёрсток выпили.
– Как в сказке: чем дальше, тем страшнее, – сказала я.
– Интересно, а что б ты сделала, как повела себя?
– Перво дело, я б поэтический салон организовала, как раньше. Чтобы поэты приходили, художники. Общались, музицировали. Чтобы там было тепло, уютно для души.
– Молочком парным поила бы.
– Пирожками голодранцев пичкала.
– Пирожки с селёдочкой под молочко…
– От дурной коровы.
– Гожо! – сказали они вместе.
Быстро они это слово от меня переняли.
– А ещё?
– А ещё поэтическое кафе открыла бы.
– Во малахольная!
И это слово они от меня переняли.
– Да нет. Одуванчик Божий.
– Почему?
– Дунет ветер жизни – и будешь голая.
– Интересно, а что будет, если ты придёшь к нему за своим имуществом? Чтобы отдал тебе предмет вожделения.
– И с автографом. Непременно с автографом!
– Стихи чтобы были.
– И ты станешь показывать их его фанаткам за деньги.
– Какой приработок будет.
– Во гульнём!
– Нет-нет! – засуетилась я.
– Да сиди ты! Не одна ты пойдёшь, а все вместе. И он, как благородный человек…
– Откуда нам знать, что этот чёлн из Союза пис…ателей благородный?
– А вдруг? Как благородный человек, после того, что произошло между вами…
– Не было ничего. Не верите?
– Чуть не произошло. И заметь, по твоей вине. Не… не по твоей натуре Божьего одуванчика. Он не может, не имеет морального права нас не принять!
– К тому же вы повязаны кровью.
– Кровищей.
И я согласилась. Вот дура!
И мы стали готовиться. Ну как же без этого.
Сходили в парную, сделали причёски, почистили рыла (так девчонки говорили). Мне не стали, у меня кожа от молочно-самогонной диеты идеальная или близкая к этому.
И стали лица на рожицах рисовать. Я отказалась, но мне сказали, что так надо в столице. И я подчинилась. Меня попудрили белой пудрой, подвели глаза, намазали чем-то ресницы.
И мои глаза… Даже мне стало страшно смотреть в зеркало, какие они были громадные и таинственные.
Брови вразлёт.
Платье и шаленку мои оставили, только поясок с индийскими финтифлюшками нацепили.
Гляжу на себя: батюшки, я, видать, одна такая в столице!
Моду лет на пятьдесят вперёд предсказала. Особенно с губами. И грудью, что уж там.
И пошли. Вот дуры!
Все глядят на нас, оборачиваются.
То ли на меня, какова я на фоне подружек. То ли на подружек, каковы они на моём прикиде.
И с разбега для храбрости влетели в редакцию.
И где тут лифт, подайте быстрее, пока разноцветный шар со шкодой не сдулся!
Ишь что захотели! На Парнасе лифта не было, и боги пёхом к вершине топали. И тут так же: пешочком, по ступенькам, к вершине, на шестой этаж. А здание старой постройки, этажи вон какие высокие, но лифт не работал.
И вот мы дочапали, остановились дух перевести, шарик задора поддуть и с высоты старой Москвой полюбоваться. Красота! Да ещё какая.
На площадке перед входом на Парнас, на засаленной горжетке, в позах будущих классиков три девицы дымили. И начали оценочно нас разглядывать. А мы их. Просто глядеть. Для девиц… плосковаты. Для парней… уж очень на девиц смахивают.
И мы прошли мимо этой компашки непонятной половой ориентации и открыли дверь в святилище.
– Бедновато на твоём Па-ра-на-се, – сказала Света. – Вот в нашем управлении торговли «Парнас» глазам больно от серебра и злата.
И мы ввалились в кабинет.
– Нет-нет, девочки. Сегодня не приёмный день, и не вздумайте меня уговаривать!
Встретила нас тётя, похожая на поэтессу, но никак не на секретаршу. Может, это была поэтическая секретарша?
– Тётя, наверное, поэт, – сказала Света.
– Здравствуйте! Мы из Главнижжензагранпоставки.
– Это меняет рифму дела, – кивнула поэт-секретарь. – Кстати, юные дарования, не найдётся что из вашей поставки? Ну это так, это к слову. У меня и списочек где-то завалялся. – И она протянула толстую тетрадь. – Я к тому же занимаюсь историей нижнего женского белья. Придёт время, востребуют и на ящике.
– Списочек с размерами, – сказала Света, взвешивая тетрадь на ладони.
– Естественно. В долгу не останусь, поддержу ваши поэтические порывы. А я вас по виду приняла за тех, что вечно на площадке толкаются.
– А они кто? – спросила Света.
– Юные дарования.
– Я имела в виду М или Ж?
– В зависимости от наклонностей.
Я ничего не поняла, а девчонки захихикали.
– У нас ожидается уникальная коллекция. Мы будем иметь вас в виду, – сказала Света. – Но мы рассчитываем, что и вы нас будете иметь в виду.
– Хорошо. С чем пришли, показывайте.
– Мы без ничего, мы к нему, Евтугению, – сказала Света.
После этих слов я, видимо, позеленела, и это заметила поэтесса и дала мне стакан с водой. Я выпила. И всё боялась, что слышно было, как мои зубы о стакан стучали.
– Все к нему, – сказала поэтесса голосом тёти-поэта, ревностным. – Не повезло вам, красавицы. Болеет он.
– Какая беда! – вздохнула Люда.
– Покушение на него было. Ворвалась какая-то ненормальная с кастетом.
– Ужас!
– Это он так говорит, шаманит. Скорее пришла дурочка из юных поэтесс. Он свет выключил, огонёк с травками зажёг для антуража и запаха, понёс всякий бред, она и готова. Он и завалил несчастную.
– Такого не может быть! – вскричала Света, правдоподобно довольно.
– Может. И получил по роже. А всем лапшу вешает: покушение, мол. Авторитет набивает и ничем не брезгует. Туда же! Покушение на изнасилование с применением насилия – статья. Это дурочка малолетняя его хотела. На это он намекает. Но так-то от трёх до семи, а то и больше. Какие непоэтические страдания выпали на его долю. Когда я примчалась, он не дышал.
Тут я сама стакан воды попросила, и зубы барабанными палочками о стакан застучали.
– А лицо – кровавая маска, – продолжала тётя-поэт, я же сама чуть не упала, а зубы о стакан прямо-таки лязгать стали. – Присмотрелась… Ба! Да это трусики на его роже. Знаете, такие изящные, полупрозрачные, с эротическим рисуночком. До чего милые, сексуальные трусики, и они…
– А дальше…
– Ах да. Он молчит – то ли ему в самом деле плохо, то ли наслаждается необыкновенным сувениром или грезит. Я потихоньку вышла, чтобы не мешать возвышенному. Жаль, девицу эту не застукала.
– А то что б? Повязала и сдала ментам?
– Что вы, голубушка! Узнала, где такое орудие достала. Девочки, вы даже не представляете, какое безотказно-поражающее орудие соблазнения на его роже было.
– Скажете тоже. Предмет одежды, гигиены, да и только, – фыркнула Света.
– Нет, девочки! В первую очередь обольщения. Для чего их делать такими-этакими, если их не видно? Зачем такой предмет искусства прятать? Для чего?! Смысл? Для гигиены? Нет. В первую очередь для возбуждения, соблазнения. Для нас? Нет, для них. Чтоб у них штаны наверх сами лезли и всё внутри сводило. И тут всё имеет значение: материал, цвет, рисунок, форма, кружавчики, рюшечки… И как показать немного, и снять как! И всё это как бы между прочим. Боже упаси специально, естественно надо. Для одних чуть приспустишь – бах, он уже готов, а то и в обмороке. Для других надо постараться. Это предчувствие, увертюра. А она должна быть прекрасной и обещать, обещать исполнения ещё более прекрасного… А может, и нет. Фиг тебе! Посмотрел, и всё. Тоже полезно. И путешествие в мир, который рядом, всегда рядом, а ты о нём и не ведаешь. О том, что не видно и так важно, какое значение оно имеет для девушек, не говоря уж о женщинах. И как этим умело пользоваться и управлять, чтобы всё держать под контролем, чтобы с выгодой для себя и удовольствием.
И мы, как заколдованные, слушали. У меня зубы перестали о стакан стучать. Я и не заметила, как остатки воды на себя вылила.
И подружки не заметили.
– Вот у тебя есть что показать. – И она показала на меня. – И сверху, и снизу, и сзади. Можно и сисю, и писю. Но в чём? Вот в чём вопрос. Быть или не быть? Скажете, это уж слишком? Тогда отчего армии художников-модельеров мудрят, придумывают, а индустрия воплощает в жизнь? И это веками. Для чего тогда это всё? Чтоб их за раз ублажать? Есть такое… Но! Основное – соблазнять! И к ноге. Непременно к ноге. Вот какой ответ. Вот для чего свора дизайнеров-модельеров денно и нощно придумывают, а индустрия исполняет. Не забывая набивать на нашем божестве свои бездонные карманы. И надо этому учиться смолоду.
– Рулить должны мы?
– А как научиться рулить?
– Для начала нужно научиться показывать то, что у вас прекрасно. На худой конец просто хорошо. Если ноги макси – носите мини и даже сверхмини. Если ноги мини – носите макси. Где надо – подтяните, где надо – распустите, обнажите и выставите. Опять же экономия – на косметику меньше тратить будете. Этим станет не до ваших разрисованных ликов. Они на другое пялиться будут. Вот вы все в бронежилетах…