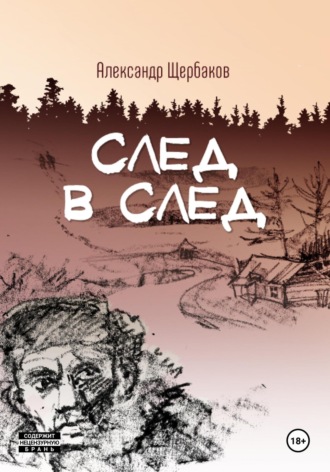
Полная версия
След в след
Между тем Михась перекинулся несколькими фразами с вольнонаёмным и, словно укрепившись в своём решении, шагнул к фраерам. Шипи-цын, увидев приближающегося вора, трусливо замолк и отвернулся, поджав вздрагивающие тонкие губы.
Михась был короток:
– Повезло вам сегодня, фраера. Очень повезло! Насилу никого тащить не будем, но и оставлять здесь тоже никого не оставим. Решайте сами! -Михась тяжёлым взглядом обвёл солагерников. Несмотря на то, что Веня Поллитра был близок к блатному миру, Михась не удосужился выделить его из заключённых. – Через десять минут уходим. Берите кому что надо. В телеге хавчик, перекусите. Только быстро.
– А завтра можно будет уйти одному? – робко спросил Завьялов.
– До завтра ещё дожить надо. Напоминаю, времени мало.
Все, кроме Сашки, пошли к вознице. Никто вслух больше не высказал недовольства. Неожиданно Михась попридержал Завьялова:
– И слышь, молодой! Бурки перекинь. В телеге найдёшь! – вдогонку просипел ему вор, приметив растрёпанные валенки на ногах зека.
– Что со мной решили? – сразу спросил Сашка-пулемётчик, пока Ми-хась стоял рядом.
– А что решили? Пока идём, там видно будет. Рука Циклопа как?.. Плохо?.. Ну, значит, пулемётчик, под богом ходишь. Везунчик!
Огородников, может, впервые в жизни перекрестился. Правда, тайком. Не хотелось, чтоб кто-то увидел. Везунчиком он себя и сам считал. Но боялся сглазить, поэтому сплюнул, а подумав, перекрестился. Спускаясь к дороге, увидели убитого нормировщика. Его тело урки даже не удосужились скинуть в снег, на обочину дороги.
Глава 6
По лесу передвигались гуськом. Проскочили трассу именно в том месте, где следы с дороги практически не различались, и сразу углубились в заснеженную тайгу. Предводительствовал вольнонаёмный, который брёл первым. По его степенной уверенности, хозяйской раздумчивости сомнений не оставалось: здешние места знает, выведет. Вот только всех ли?
Огородникова поставили замыкающим. Так решили на коротком тол-ковище в густоте соснового пролеска, вернее, решил Михась, и воры его поддержали. Настрой некоторых зеков не ускользнул от внимания законника. Да и Сашка тоже испытывал противоречивые чувства по отношению к Шипицыну и Завьялову, до конца не понимая, что с ними делать дальше. Поэтому блатные поставили его последним. Хмара и Жмых настаивали на расправе. Сашка, не выпускавший автомат из рук, сказал: нет. Воры вспомнили, как он действовал на деляне. Быстро представили возможные последствия, если будут дальше настаивать на ликвидации «случайных» беглецов.
– Разбирайся с фраерами сам, – подытожил тяжёлый разговор Михась, давая понять: случись что – крайним останешься ты. На удивление, первое время шли резво.
Где-то через час сноровистого хода и Щипицын, и Завьялов сменили молчаливое сопротивление и теперь неслись по сугробам не хуже остальных. И вот уже им начинало казаться, что отрываются они от предполагаемой погони невероятно быстро.
Определённо, и удача на их стороне, и проводник имеется, и погода подходящая, и время года – весна, а весна, как известно, время отчаянных побегов. Воздух тайги кружил, наполняя немощный дух пьянящей свободой, а ослабленное тело драгоценной силой. Но Сашку-пулемётчика до сей минуты не покидало ощущение неотвратимости трагического конца. Как он ни увиливал внутри себя от серьёзного разговора с самим собой, какими бы оправданиями ни пользовался, чтоб отгородить себя от разъедающих нутро мыслей, он понимал – всё, происходящее с ними, просто судьба. Тут хоть голову пеплом посыпай, хоть изведись в истошном крике, а ничего не изменишь. Он, в отличие от других арестантов, словно ополоумевших от таёжного весеннего запаха и от осознания свободы, не разделял их радость. Его не покидало чувство, что эта свобода не его, она как бы украденная, а значит, чужая. Точно такие же мысли грызли его и в лагере, особенно в утренние часы.
Эх, если бы не весна! Эта она, проклятущая, взыграла-вскипела в крови, она замутила рассудок, она позвала-заманила на волю. Что говорить: время для побега выбрано самое удачное. Как пить дать, прежде чем решились на побег – всё просчитали скрупулёзно, с обстоятельной основательностью. Весна! А весна, как известно, наполняет воздух пьянещей свободой и необузданной силой.
До вечера их не кинутся искать. В ночь, конечно, не полезут в тайгу, побоятся. Да и что в темноте найдёшь? Будут ждать утра. А там уж как карта ляжет!
Во многих местах, где они шли, снега было мало. Может, оттого, что места выходили открытые, выветриваемые, а может, благодаря проводнику, который ориентировался в окрестностях, как лоцман в коварных заливах. Они взошли на первую сопку и обомлели. Здесь и небо казалось ближе, и воздух гуще, насыщеннее, и солнце ярче. Снег искрился и слепил до рези в глазах. И что особенно радовало: наконец-то косточки почувствовали долгожданное весеннее тепло. Сашка впервые понял выражение: видно как на ладони. Он загляделся на разверзнутые просторы под сопкой. Разлохмаченные изумрудно-зелёные долины с редкими проплешинами-полянами лоснились до самого горизонта. На вершине сопки обессиленные, распаренные от тяжёлой ходьбы, они все попадали в снег и довольно долго молчали. На разговоры сил не осталось.
Поднимался ветер со стороны сопок, запелёнатых в серебристо-мерцающий панцирь. Сначала ветер стелился низко и при ходьбе не казался таким пронизывающим. Отчасти спасали деревья. Потом ветер ушёл ввер-ха: макушки пихтовых сразу запузырились, застонали. Небо мгновенно стало темнеть: прозрачная хрустальная синь, будто устав дарить людям тепло и свет, сменилась в цвете – отяжелела серыми, грязными красками. Блатари, которые всё время шли немного впереди, как бы держась на расстоянии, нашли в себе силы подняться разом и двинуться всё также гуськом вниз по склону. Они безвозвратно приближались к выступающему лохматым чубом пролеску. Ещё немного, и зелень качающихся еловых верхушек поглотит человеческие фигуры, и, может, больше никогда Сашка не увидит нечаянных подельников побега. Похоже, это обстоятельство тревожило только его одного. Он резко встал: его подопечные даже не подавали признаков жизни.
Вот тут-то Сашка всё осознал окончательно. Он разом вспомнил взгляд проводника, озлобленную гримасу Хмары, полную презрения ухмылку Михася. Тогда он сказал, ни к кому не обращаясь и не упуская из вида маленькие фигурки растворяющихся вдали человечков:
– Если сейчас не встанем, передохнем здесь. Ещё немного надо пройти. Там еда и зимовье, – вдруг соврал Сашка, упомянув о еде и тепле, как единственной зацепке, способной хоть как-то растормошить отчаявшихся зеков.
Первым поднялся Веня Поллитра: худой, посеревший, открыл широко рот, показывая редкие сгнившие зубы:
– По мне, и здесь помирать блаженство. Всё одно не на нарах. Но вот чёй-то жить захотелось. Так что вставай, каторжане. У воров, правда, жратва имеется. Сам слышал.
– Вот они тебя ею и накормят от пуза. До беспамятства, – оскалился в беспомощной злобе Шипицын.
– Без базара, можешь оставаться тут, а других не подбивай, – не глядя на него, парировал Веня.
Взрослые, истрёпанные и жизнью, и лагерями мужики почему-то проснулись именно от слов Вени Поллитра, зашевелились, словно он каждому нашептал молитву, от которой в уставшее тело вливалась спасительная сила, а в истерзанную душу возвращалась надежда.
Ветер наседал. Они побрели след в след за исчезнувшими из вида блатными. Сашка думал: если кто не встанет, уговаривать не будет, уйдёт один или вон с Венькой Поллитра. Однако потянулись за ним все. Теперь он шёл впереди и старался переступать ногами как можно быстрее. Хотя, признаться, быстрее уже не получалось, и он просто шёл как шёл. Без мыслей, без оглядок, без рвения, лишь бы дойти вон до той валежины. От неё высматривал следующую валежину, пенёк или комель, вывернутый из земли, а потом ещё и ещё. В конце концов то остервенение, что подстёгивало его ещё несколько часов назад, тоже иссякло. Наступили минуты, когда он работал телом механически, потеряв все мысли и утратив все способности что-либо нормально воспринимать. Азарт побега растаял без следа, в отличие от следов, оставляемых на снегу.
В низине сумерки сдвинулись. Верхушки деревьев гудели, скидывая снежные охапки. Порой снег падал тяжело, с уханьем, который можно было принять за шевеления подраненного зверя. Заметно похолодало. Прошло немного времени, когда совсем измотанные беглецы догадались – начинается метель. Рассыпчатое крошево посыпалось сверху. Протяжный, усиливающийся то ли гул, то ли стон зашатался между вековыми деревьями. Осознание того, что они безнадёжно отстали от воровской группы, отняло последние силы. Тьма облепила их с такой плотностью, что даже лица рядом стоящих зеков угадывались лишь по очертаниям фигур. Все укрылись под кронами завалившейся невесть отчего сосны.
– Не надо было отлёживаться там, – прерывисто заговорил, сипло дыша и хватая всем ртом воздух, Веня Поллитра. – Здоровый раненного ждать не будет. Таков закон.
Привалившись спиной к стволу, Огородников не поддержал разговор. Он остро ощутил, как вытягивает остатки тепла промозглая сырость. Ноги, поясница, плечи наливались свинцовой тяжестью, живительного давления в жилах и сосудах явно не хватало, голова, отуманенная рассеяно-стью, будто уплывала, подхваченная свирепствующим ветром. Вспомнил с пронзительной горечью о хозяйском полушубке Тыжняка – снять тулуп с трупа побрезговал. И чего он своим чистоплюйством добился? Жмых не побрезговал, выходит, поумнее оказался. Вспомнился в полузабытьи и его прихлёбывающийся каркающий смех. Ещё сегодняшним утром он не предполагал вот такой конец своего земного пути. Рядом привалился Веня Поллитра. Мерцая зрачками, словно какой-то зверь, спросил про спички. К удивлению, спички были у многих – повытаскивали из карманов убитых конвоиров. Веня Поллитра полез за пазуху. Огородников вдруг уловил странный запах: так пахнет в скотнике от коровы, от лошади, ещё этот запах напоминал детство. Вспыхнула спичка, полыхнуло пламя: короткое, меньше чем на секунду. Силуэты каторжан вынырнули из темноты, и тут же слились с ней. Красные искры снежинками разлетелись по ветру. Веня Поллитра весь день за пазухой хранил клочок сухого сена, и каким умом догадался прихватить клочок из телеги несчастного нормировщика, пойди, догадайся!
– Для доброй лучины береста нужна, ветки сухие, – голос шёл из горла Вени Поллитра перекатами, словно каждый звук расталкивал плотины, чтоб вырваться наружу, достать до слуха собеседников.
– Точно-точно! Для верности сушняк нужен, тогда получится распалить, – отметился суждениями Белеш.
– Где в такой темени что найдёшь, – в отчаянии, преодолевая озноб, проговорил Завьялов. Огородников нарочито бодрым голосом – а иначе и самому не подняться – сказал, поймав в завываниях ветра передых:
– Отставить скулёж, братцы. Веня – башка, догадался же! Белеш, Шипи-цын, за мной, собираем ветки, остальные зарывайтесь как можно глубже, – он в темноте определил место, где надо закапываться. Сашка встал и, сгибаясь от пронизывающего ветра, отошёл на несколько метров в сторону, к высокорослому ельнику. Достав нож, снятый с пояса Тыжня-ка – даже лицо его, перекошенное от нестерпимой боли, на мгновение промелькнуло перед глазами, – принялся собирать кору с сосны. Наткнулся на поваленную берёзу: принялся ломать тонкие просохшие ветки с неё. С охапкой хвороста вернулся к привалу. Следом приполз Завьялов: охапка жидкая, но хоть что-то в отличие от Шипицына, который, похоже, даже с места не тронулся. Его отрешённость от всего происходящего вокруг говорила о многом, если не обо всём: человек сдался уже нутром, и, если такое состояние придушило в своих объятьях хозяина, человек – не жилец.
– Ещё надо, ещё, – бубнил, распаляя себя, Веня Поллитра, вовсе неразличимый в яме. Только слышна возня там, внизу, в яме и скрип выбрасываемого на поверхность снега. Бестелесное крошево крутится, подхваченное ветром, рассеивается над землёй. Белеш не выдержал:
– Да хватит уже, могилу что ли роешь?
Огородников подавал туда, в яму, хворост. Веня Поллитра сказал, чтоб пока не лезли к нему, мешать только будут, сам разберётся. Кто-то запричитал гнусаво, по-бабьи, что-то молитвенное. Кажется, Завьялов. Вот те на!
Мало того что по статье хулиганской сидит: то ли сожительницу, то ли школьную любовь из-за ревности зарезал, так ещё и попом оказался! Вот откуда молитвы знает!
Огородников невольно прислушался к словам парня. Но не разобрать, что бубнит: ветер то так свернёт звуки, то этак, но точно молится. И тут в яме засветилась лучина. Все обернулись на свет. Веня распахнул телогрейку, бережно огораживая, насколько хватило роста, слабенький огонёк от резких порывов ветра. Так, наверное, матушка держит младенца в первые минуты после его появления на свет божий: даже дыхание сдерживает, чтоб не отнять нечаянно глоток воздуха у дитя. Веня подкладывает кусок бересты, подкладывает ещё один, уже покрепче. Несколько тонких, тоньше мизинца, веточек медленно облизывают сизое пламя.
Узнаётся лицо заключённого: сосредоточенное, застывшее, измученное переживаниями. Веня Поллитра сгибается: огонь перетекает из его рук на землю, он медленными движениями оставляет огонь жить самостоятельной жизнью на снегу, ни на секунду не сводя взора и готовый сразу кинуться на помощь, уже издававшему первые вздохи – пострел суховея – костру. Он ещё колдует над огнём, словно старый шаман готовится к языческому обряду, но вот осмелевшие языки пламени зашевелились, набирая высоту, и человек сразу теряет интерес к нему. Не поднимаясь с корточек, Веня просит веток. Ему осторожно подают. Стены ямы высветились: получилось неровное углубление прямо под валежиной, на три-четыре человека. Теснота в данном случае – главное и необходимое условие для выживания. Огородников всматривается в каждого, пытаясь разобраться в своих мыслях. В неровном свете от костра лица каторжан мало узнаваемы. Мерцающие отблески причудливо отражаются в зрачках рядом притихшего Белеша, он погружён в себя настолько, что создаётся впечатление, что это не человек лежит, мумия. Между тем костёр окреп, и тогда Веня осмеливается его переложить поближе к выходу. Языки задёргались конвульсивно, грозя вот-вот потухнуть: ветер-хитрец шаловливо играет на краю ямы, хочет забрать последнюю надежду у людей. Предусмотрительный Веня подкидывает сухие хворостины в самый нужный момент. Всё, теперь костёр крепкий, настоящий, даже ветер-шатун не задует его. Хоть запляшись! Ему подают полешки потолще: один из зеков – Завьялов, проявляет нетерпение – сам подкидывает ветки в костёр. Темень отодвигается за спины, стонущий лес уже не кажется таким угрожающим и негостеприимным. Промозглая сырость, благодаря теплу от костра, утрачивает въедливую силу: искры от поленьев легко поднимаются вверх, исчезают в причудливых кружевах. Веня Поллитра подсказывает, что теперь нужны лесины серьёзнее, чтоб огонь не задуло. Шипицын, словно не слышит, о чём говорит Веня; вползает в яму, клубочком скручивается, неуклюже подобрав ноги под себя: слёз не видно – лицо прячет в воротнике телогрейки: всхлипывания, переходящие в скулёж, доносятся до остальных зеков. Белеш не выдержав пнул его ногой:
– Слышь, параша! Замолкни!
Белеш смотрит на беглецов и, не находя у них поддержки, запихивает руки подмышки и в сидячей позе сгибается так, что спина пузырится неестественным горбом. За дровами ушли опять Завьялов и Сашка-пулемётчик. Завьялову никто не приказывал, пошёл сам. Сашка пошёл потому, что ещё оставалось непреодолимое чувство ответственности за всё происходящее. Это чувство занозой сидело где-то в груди, принося тревожную обеспокоенность и тоску. Когда костёр разошёлся вовсю, все вдруг вспомнили про возможную погоню.
– Да кто полезет в такую свиристель… Сгинуть за три копейки что ли? – недоумевал Белеш.
– За пол-литра, – вдруг добавил Веня.
– Что?
– За пол-литра, говорю.
– А, ну да!
Получилось смешно. Огородников тоже рассмеялся, всячески стараясь избегать мыслей о еде. Все залезли в яму, прижались покрепче друг к дружке. Если не шевелиться, тепло некоторое время кажется явным. Однако вши не давали лежать в одной позе: тело молило о движении, ну хоть маленьком, незначительном. Вскоре спина у Огородникова заныла нестерпимо. Он немного выполз из ямы, подставив лицо ближе к костру. Зеки, каждый как мог, искали позу для сна удобнее. Время сочилось тяжёлыми каплями в снег. И ночь, и метель, и скользящее бесшумно с небес крошево стали казаться вечными. Вновь Огородников, сквозь дремотную пелену забытья, услышал молитву. Это Завьялов! Вот неугомонный, и откуда только силы находит молиться. Веня негромко задал вопрос, который, похоже, волновал всех:
– Слышь, Зюзя (так к нему обращались в лагере), а правду говорят, что жинку свою прирезал за то, что от бога отреклась?
– Отреклась, был такой грех на её душе! Но прирезал не за это… За словоблудия и призывы к сатанинской власти… Сатана овладел её помыслами. Без веры пыталась русского человека учить жить… А без веры русскому человеку никак нельзя!
Огородников обернулся:
– А что твоя вера шепчет наперёд? Дождёмся рассвета?
Он с удивлением в себе обнаружил, что мысли о побеге уже не властвуют над ним, что, скорее, он начинает жалеть о том, что не нашёл в себе сил отказаться раньше от этого необдуманного поступка. Первый звоночек прозвучал, когда воры их бросили. Уходили в тайгу, даже не оглядываясь. А ведь у них была еда. Второй – как только разожгли костёр. Если даже они и доживут до светового дня, откуда возьмут сил подняться и продолжать побег? Да и куда идти! Все эти вызревшие догадки набирали неподъёмный вес в душе. Невыносимая тоска, безысходность и отчаяние сковывали волю, словно выжигали нутро до пепельной немощи.
– Утро будет, но не для всех! А утром нас найдут! – сквозь завывания ветра проговорил Завьялов.
Он сказал так, словно проговорил заклинание. Ему никто не возразил. Ни оспаривать, ни доказывать что-либо, ни ввязываться в рассудительный разговор не было сил. Усталость неотступно волокла сознание в темноту. Сил думать о том, проснёшься ты завтра или нет, не осталось.
Спать, спать, спать… Сейчас безразлично, что будет завтра.
Сейчас спать, спать, спать…
Глава 7
Над ИТЛ-04 плыла тревожная тишина. Вечерняя поверка час как закончилась, всё протекало привычным руслом, кроме одного: на плацу отсутствовала четвёртая бригада.
Начальник лагеря – майор Федот Алексеевич Корякин сидел у себя в кабинете под властью нахлынувшей щемящей тоски. Кабинет, четыре на три, самый дальний по коридору: от окна буквой «Т» громоздился стол, в левом углу – сейф, на видном месте стены – портрет Сталина. Всё достаточно аскетично, как и должно быть в кабинете начальника гулаговского лагеря. Брюхатая тоска переваливалась в тревожное состояние. Из соседнего кабинета иногда доносились тяжёлые голоса – это начальник режима капитан Недбайлюк допрашивал дневальных шестого барака, где обитала четвёртая бригада. Стены комендатуры хлипки настолько, что стоит повысить голос, сразу слышно, о чём говорят. Но вот уже довольно давно Корякин утратил интерес к допросу. Он за какой-то надобностью, а за какой, уже и забыл, полез в сейф. Из старого ведомственного журнала выпала маленькая фотокарточка. Присмотрелся – надо же! Искал, конечно, другое, но нашёл её: подобное частенько с ним случалось. А всё потому, что с молодости не любил заполнять отчёты, считая это занятие пустым бумагомаранием. И даже за многолетнюю службу в НКВД не смог переломить свою натуру и раскорчевать в себе бережно-учтивое отношение к заполнению документов.
На фотокарточке он с женой, молодые совсем. Какой же это год? Кажется, перед самой войной, когда он учился в академии! Или позже? Они с Галиной прожили к тому моменту почти три года. Сколько надежд, сколько планов, сколько энергии и веры в себя, в своё будущее, в своё счастье. Как быстро пролетели годы. Многое сломала война, а многое сломалось без её участия. С Галиной Сергеевной – женой – жили первые годы дружно. После учёбы в Военной академии имени Фрунзе началась гарнизонная жизнь, в общем-то, картина привычная и обыденная для начинающего комсостава. Но Галина не выдержала: репутация декабристки не прельстила. Походные условия, разумеется, были тяжелы, быт неустроен, жизнь в воинской части вялотекущая и скучная. Через полгода собрала чемоданы и вернулась в Подмосковье, к родителям. Никакие упрёки, мольбы не остановили её. Гарнизон находился на территории Казахстана, в не совсем забытом богом, а скорее аллахом, ауле, заботливо укрытом тенью зелёно-рыжих сопок. Народу в ауле проживало немного, и можно было бы про него совсем забыть, да географически аул располагался для транспортного транзита лучше не придумаешь. Все караваны следовали через него. Откровенно сказать, Корякин несколько иначе представлял начало военной службы. Вся эта походно-полевая романтика оказалась ему не по душе. В чём-то он соглашался с женой, которая, как выяснилось несколько позже, оказалась не всегда уравновешенной, избалованной и склонной к скандалам. Если первые годы после свадьбы, проживая в Москве, всё у них ладилось, то последующие – напротив: Галина Сергеевна только и выискивала повод укатить домой. И если первые годы детей не торопился заводить Корякин, то потом уже не торопилась Галина, всё отмахивалась, считая, что успеют, что ещё есть время, так и дотянули до войны, когда уж совсем не до того стало. В тридцать седьмом году Корякин, предвидя, что ему придётся если не всю жизнь, то значительную её часть мотаться по гарнизонным общежитиям, перебрался на службу в НКВД. Здесь были явные преференции: начать хотя бы с того, что в Саратове ему сразу вручили ордер на двухкомнатную квартиру. Платили больше да ещё выдавали дополнительный паёк продуктами, который очень кстати пришёлся, поскольку в магазинах ничего путного не купишь. Это уж с сорокового года для выслуги лет перебрался в уголовно-исполнительную систему, ну, и финансовая сторона сыграла не последнюю роль при выкраивании дальнейшей карьеры. В НКВД тогда прошли большие чистки, требовались новые кадры. Корякин считал себя человеком прагматичным, умным и дальновидным. Больше всего он боялся войны, а также что в ней ему придётся принимать самое непосредственное участие. А то что война будет, он не сомневался. И хотя трубили газеты обратное, он им не верил. Он, вообще, к тому времени расстался со многими иллюзиями. Постепенно Корякин втянулся в работу. После уральских лагерей направили вот сюда, в Восточную Сибирь. Повезло, что не на Дальстрой или в Воркутлагерь. Туда жёнушка, точно, ни за какие деньги не поехала бы. А деньги она любила и немалые.
Корякин в последнее время всё чаще задавался вопросом: остались ли чувства к супруге? Всё переворошил в душе, а до истины так и не докопался. Очевидно, пролегла между ними межа недопонимания: руками дотянуться можно ещё, а телом и душой – никак. Дошло до того, что Галина приезжала лишь в летнюю пору на один и, в редких случаях, два месяца. Причём последние недели, как правило, изводила его пустыми скандалами, начиная ругаться по малейшему поводу. Последние девять лет так и жили: он здесь начальствует, в исправительных лагерях, что виноградной гроздью рассыпались по северной части Иркутского округа, а Галина там, в Подмосковье, на родине. Жила с матерью, отец скончался от сердечного приступа в сорок шестом. Наверняка, тестя вдвоём допекли. Тёща тоже была не подарок. Дочь-то в кого? Отчаянье прибавляло и то обстоятельство, что детей они не нажили. В сорок два года Корякин вдруг осознал всю ограниченность своего земного срока, и это понимание, показавшееся ему вначале не самым важным и стоящим, постепенно разрасталось в нём.
С годами он на многое стал смотреть по-другому, порой тоска так припирала, что без душевного разговора с кем-нибудь не обойтись. Хотелось поставить на стол бутылку водки, закуски какой-никакой. Выговориться вволю. Но вот с кем?
Он и не думал, что одиночество вскоре станет его постоянным спутником. Многие одиночества избегают, он же, напротив, одиночества стал искать. А вечерами, словно сторожа какую-то немощную неприкаянную тишину в доме, незаметно пристрастился к выпивке. Благо, никто не видит, и ругать некому.
Корякин положил в сейф папку, фотокарточку спрятал в нагрудный карман. И опять подивился тишине, как бы страдальчески пыжившейся за стенами комендатуры. Тревожное предчувствие нарастало.
Нервно посмотрел на часы: половина девятого. Конвой, сопровождавший двенадцать заключённых с лесозаготовительной деляны, обязан был вернуться к восьми вечера. Нарушение режима – редкое явление для лагерной системы. Прапорщик Тыжняк тем и славился, что ретиво оберегал порядки на зоне. Иной раз чересчур ретиво. На что иногда нет-нет да поступали жалобы от заключённых. Но это уже епархия начальника режима. Что-то притихли они там, за стенкой. Так, а что остальные бригады? Остальные бригады с промзоны вернулись в положенное время. В девять вечера все должны были побывать в столовой, а через час, согласно графику, – вечерняя поверка. Корякин подумал о том, что по возвращении «лесорубов» начальнику конвоя, прапорщику Тыжня-ку, обязательно задаст взбучку за нарушение режима. Ещё подумалось о том, что не забыть бы завтра написать рапорт в Управление насчёт усиления конвойного отряда – с приходом весны заключённые начинали искушать себя побегами.


