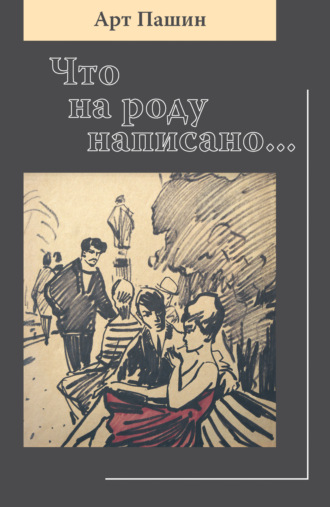
Полная версия
Что на роду написано…
– Зайдём ко мне. Я только умоюсь, переоденусь, и поедем к твоим.
– Может, я поеду первой, приму удар на себя? Ты же знаешь: ни Гарик, ни мама не могут на меня долго сердиться, – Лика старалась выглядеть серьёзной, но получалось плохо. Паше казалось, что про себя она улыбается. – Если женщина в сложной ситуации берёт огонь на себя, тогда ей не нужен мужчина. Подожди, я мигом.
Бросив машину у ворот Ликиного дома, они через калитку вошли во двор. И первое, что увидели, – Гарика в одних трусах, моющего свою «Волгу». Паша никогда не обращал внимания, какой он большой и мускулистый. Увидев вошедших, Гарик так и застыл, держа в одной руке шланг, в другой – губку. Посмотрев на дочку глазами больного ребёнка, попятился к дому:
– Пойду что-нибудь накину.
– Успеешь, папа…
Финал этой сцены Паша ещё долгие годы вспоминал с улыбкой и восхищением.
Лика неожиданно вскинула голову и с радостной улыбкой громко позвала:
– Мама, мама, где ты?!
Испуганная Лена выскочила на крыльцо, и Лика, бросившись ей в объятия, смущённо опустив глаза, объявила:
– Павел сегодня сделал мне предложение и пришёл просить у вас моей руки.
– Какое предложение, какой руки? Ты же ещё школьница, – Лена, не выпуская Лику из объятий, недоумённо переводила взгляд с Павла на Гарика. – Что здесь происходит?
Зато Гарика было не узнать: его лицо расплылось в улыбке, и, широко раскинув руки, он обнял жену и дочь.
– Ты же знаешь, Леночка, любовь возраст не выбирает. И не завтра же к венцу. Гликерия сдаст экзамены, поступит в институт, тогда и свадьбу сыграем.
Наблюдая этот бурлеск, Паша пытался понять, что это: семейная заготовка под него или мгновенный Ликин экспромт? Скорее, второе, уж больно кислое лицо было у Гарика, когда они вошли. Да и честнейшая Лена не могла быть участницей столь сложной интриги.
– Ну, девочки, готовьте на стол, а мы с Пашей пойдём потолкуем на веранде. Только оденусь…
Когда Гарик с бутылкой водки и двумя тонкими стаканами вышел на веранду, Паша тихо закипал. Первая волна облегчения схлынула, оставив чувство, будто его провели вокруг пальца. Не Лика – такое и захочешь не сыграешь, – а «наш Гарик». Знал же, с самого начала всё знал – и никак не предупредил. И ведь не подумал, что в Киеве его ждёт Наташа. А вдруг Платов бы просто пожал Гликерии ручку, и адью?
Так что, остановив на лице товарища хмурый взгляд, Павел спросил:
– Ты вообще в своём уме? Зачем вся эта затея: рыбалка, Озерки? После стольких лет дружбы ты не мог прийти ко мне и просто объяснить: «Ну влюбилась девочка, они все в этом возрасте в кого-то влюбляются, давай вместе подумаем, как будем жить дальше»?
– Не мог, Паш. Ты себе это как представляешь: чтобы я пришёл тебе сватать свою дочь? Понимаю, это выглядит диковато. Но если б ты знал, что мы с Леной пережили за последние десять лет, ты бы не был так строг к нам.
– Десять лет? Она же тогда была совсем ребёнком.
– В том-то и дело: она влюбилась в тебя ещё тогда.
– Ага, семилетка влюбилась в долговязого подростка, который её ещё на горшок сажал.
– Да, приблизительно тогда мы с Леной заметили, что она всё время расспрашивает, когда вы приедете. За неделю не отходила от зеркала, примеряла все наряды, а когда вы приезжали, первая бежала встречать. Ты дарил ей шоколадку и больше не замечал. Она сильно обижалась, и мы успокаивали её, что, мол, когда она подрастёт, ты обязательно полюбишь её. Вы росли, ты стал приезжать с компаниями, с девушками, и тогда она запиралась в своей комнате и плакала. У нас с Леной сердце разрывалось… Но по-настоящему мы всполошились после того футбольного матча. Помнишь игру между местными и дачниками?
– Что-то такое припоминаю.
– Ну вот, для тебя это «что-то такое», а у нас, хотя прошло пять лет, до сих пор твои голы вспоминают. Ты тогда был на самом пике формы. Играл в дубле, но Дед Маслов тебя уже и в основу «Динамо» выпускал.
– Ты знаешь, Гарик, я не люблю вспоминать свое футбольное прошлое. Да и при чём здесь Лика?
– А при том, – Гарик залпом выпил полстакана водки и, не закусив, продолжил: – Мы к этому матчу целый месяц готовились…
Рассказ Гарика оживил в Пашиной памяти подробности той истории.
Лето. На стадионе собрался весь город. Матч между жителями Остра и владельцами дач. Принципиальное сражение для первых и развлечение для вторых. Паша – на тот момент почти профессионал на подступах к основе «Динамо» – уже в первом тайме забил местным три гола. Остёрские приуныли. Увидев это, Павел взял у судьи мегафон и на весь стадион объявил: «Я хоть и дачник, но вырос в вашем городе и второй тайм буду играть за местную команду». К концу игры он сравнял счёт. Весь стадион встал и аплодировал ему.
– …Когда прозвучал финальный свисток, – продолжал Гарик, – Лика подбежала к тебе с цветами, обняла и поцеловала. Ты приподнял её и расцеловал в обе щёки, – таких подробностей Паша уже не помнил. – Со стадиона тебя местные вынесли на руках. А твой третий гол в ворота дачников, метров с двадцати, обсуждают у нас в пивной по сей день…
– Ну и что, расцеловал ребёнка, ей тогда было лет десять-одиннадцать.
– Двенадцать. Ты через минуту забыл об этом, а она прибежала домой и объявила Лене: «Мама, он в меня влюбился». Лена серьёзно ей ответила: «Может быть, но у него уже есть девушка – Наташа. Как же быть с ней?» Ну, ты же знаешь Лику: она только ногами затопала: мол, забудешь ты эту рыжую. С этого дня спокойная жизнь для нас с Леной закончилась. Лика выписала все спортивные журналы. Вырезала любую заметку, где упоминали тебя. Стала ездить на игры в Киеве и даже на тренировки. Но чёрный день для нас наступил тогда, когда спартаковский костолом, как его, не помню…
– Агеев, – подсказал Паша.
– Да-да, Агеев разнёс вдребезги твоё колено. Лика была на трибуне, и, когда тебя выносили с поля на носилках, она к тебе через толпу побежала.
Память Платова нехотя распечатывала подробности тех событий, которые он старательно прятал от себя. Колено отозвалось тупой болью. Душа наполнилась тревогой: прошло много лет, а пережить, перестрадать ту историю до сих пор не получалось. Тяжёлая травма навсегда закрыла для Павла путь в большой спорт, разрушила его мечты и планы на будущее…
– У тебя был болевой шок, и ты, конечно, этого не помнишь. Ты был почти без сознания и только твердил: «Неужели это конец?»
Гарик не мог знать подробностей того, что случилось дальше после этой травмы. А то, что знал, в его пересказе звучало как-то мелко и неубедительно. Не понимал он и логику действий дочери: в глазах отца она выглядела просто одержимой. Но сам Павел гораздо позже по откровенным беседам с Ликой восстановил картину последовавших событий почти во всей полноте.
Травмированного Платова увезли со стадиона на операцию. Лика, соврав родителям, что останется у подруги, всю ночь просидела под окнами спортдиспансера. Наутро, убедившись, что в ближайшее время её не пустят к Павлу, собралась уходить, когда у дверей диспансера резко затормозила «Волга». Из неё выскочила Наташа, на ходу застёгивая кофту, и, чуть не сбив Лику, бегом бросилась в палату. Лика посмотрела ей вслед и, сжав зубы, процедила: «Даю тебе ещё три года».
С того момента девочку будто подменили. По словам Гарика, всегда радостная и весёлая, она в один день превратилась, что называется, в синий чулок.
Сразу после возвращения домой Лика отправилась в Чернигов и, ничего не говоря родителям, договорилась с преподавательницей тамошнего пединститута брать уроки английского языка. Затем, переговорив со знакомым филологом, выкатила отцу список книг, которые он должен был достать: Хемингуэй, Фицджеральд, Стейнбек, Сэлинджер, Маркес, Дос Пассос, Аксёнов, Вознесенский, Евтушенко, Платонов, Некрасов (но не тот), Булгаков и ещё два десятка. Гарик жаловался, что достать всё это было труднее, чем пару женских кожаных костюмов и с полдесятка мохеровых свитеров.
Лика всегда неплохо училась, но тут пошли сплошные пятёрки по всем предметам. Казалось бы, радуйся, да и только. Но родители понимали, что это какой-то надлом. Какой-то нездоровый фанатизм.
Ну а добила она их, когда однажды явилась домой без своих роскошных кос, подстриженная под мальчика. Лена хлопнулась в обморок. Гарик тоже не выдержал. Схватил её за плечи, начал трясти и кричать: «Ты уже сама сходишь с ума, ещё и нас с мамой хочешь свести в могилу. Читай уж что хочешь. Но зачем себя так уродовать?» Лика высвободилась, отошла в угол комнаты и, как будто ничего не произошло, спокойно ответила, что некогда ей утром и вечером по полчаса терять на вычёсывание и заплетание кос – и так времени ни на что не хватает…
– И протягивает мне листок, – продолжал рассказ Гарик. – Там какие-то девушки в купальниках в разных позах. Ты знаешь, Павел, у меня нервы что корабельные канаты, но тут я думал, с катушек сорвусь. Как закричал: «Что это ещё за гадость?» – «Никакая не гадость, – отвечает она. – Упражнения для правильного развития женского тела. Аэробика называется. У нас этого ещё нет, но девочки в Киеве как-то достают копии. Постарайся достать и мне, пожалуйста». Паша, я отходчивый. Сел на пол, посадил Лику рядом и уже по-доброму, по-отечески спросил: «Доченька, зачем тебе всё это?» Уткнувшись мне в плечо, она, как бы уговаривая и меня, и себя, раздумчиво сказала: «Папуль, у меня всего три года осталось, к семнадцати я должна быть красивее, умнее и во всём лучше этих киевских зазнаек. И вот ещё что, пап: бассейна у нас в городе нет, так что с завтрашнего дня я каждый день буду переплывать Десну. Подстрахуешь меня на лодке?»… В общем, постепенно мы с Леной втянулись в этот трёхлетний марафон. Ну а что из этого получилось, ты можешь теперь оценить сам…
– Недурно получилось, – Паша хотел сказать что-то ещё, но тут в дверях появилась Лена и жестом пригласила мужчин к столу.
Гарик встал, обнял жену. Глядя на них, Платов впервые осознал, какие они красивые и необыкновенные люди.
Глава 8
1914–1930 годы, ОстёрИстория жизни предков Пашиных друзей Лены и Гарика была действительно необыкновенна и нетипична даже для того сумбурного предвоенного и предреволюционного времени, когда великие князья, нацепив красные банты, вышагивали в антимонархических демонстрациях, а кузнец с Литейного завода, ещё вчера вступивший в какую-то прогрессивную партию, название которой он так и не смог выговорить, ковал из чугуна образ Спасителя, приговаривая: «Чтоб на века, чтоб вера не угасла».
И вот в самый канун первой империалистической на заднем пороге главного дома Остёрского поместья князей Еланских объявился довольно высокий человек, одетый в чёрный глухой сюртук с маленькой шапочкой на затылке.
Проходивший мимо слуга с удивлением оглядел необычного пришельца и поинтересовался:
– Чего угодно? И почему с заднего входа?
– А угодно мне быть принятым его высокопревосходительством, а с главного входа нам нельзя.
Лакей пожал плечами и буркнул:
– Доложу дворецкому, а там уж как енирал решит.
Прошло немало времени, пока мальчонка из прислуги поманил странного человека пальцем и, указав на длинный коридор, выпалил:
– Иди коридором, там увидишь дворецкого Осипа – он тебя к ениралу и проводит.
Генерал от инфантерии князь Сергей Аристархович Еланский разучивал на виолончели «Турецкий марш». Аккомпанировала ему на рояле миловидная молодая женщина. Первой увидев остановившегося на пороге необычного гостя, она опустила руки от клавиш, слегка кивнула незнакомцу и направилась к выходу из музыкального салона.
– Спасибо, Варенька. Продолжим позже.
Князь повернулся к визитёру и рукой пригласил пройти в салон:
– С кем имею честь?
Гость стушевался, как-то ссутулившись, откашлялся и с сильным южным акцентом представился, поклонившись:
– Глава еврейской общины Гродненского уезда Лейба Исаак Бен Шмуль Шапиро.
Сергей Аристархович от неожиданности происходящего немного растерялся и, чтобы скрыть растерянность, улыбнувшись, заметил:
– Да у тебя имён больше, чем у принца Ольденбургского.
– Это для представительства. А так я просто раввин Лей-ба Шапиро.
– Чем обязан? – голос генерала приобрёл свойственный ему командный регистр.
– Милостивейше прошу, ваше высокопревосходительство, приютить малую толику беженцев.
– А что же вам в Гродненском уезде не жилось? И почему именно у меня?
– В насиженном месте уж больно притеснять нас стали. И молодой барин пьяницей оказался, и его холопы, как напьются сивухи, давай дома наши крушить да баб наших гонять. Вот и снялись мы с насиженного места. А к вам подались, потому что наслышаны, что человек вы праведный, справедливый; хоть строгий, но своих в обиду не даёте. А кроме того, черта оседлости впритык у вашего поместья проходит – 70 вёрст от Киева и 80 до Чернигова.
– И сколько же вас, убогих?
– Девятнадцать мужеского пола, двадцать баб да семеро детей малых.
Генерал Еланский был человеком неудержимой храбрости, манёвры его полков в сражении под Плевной вошли во все штабные пособия. Но, как многие отважные люди, генерал был крайне сентиментален.
Раскуривая длинную трубку, князь Еланский в задумчивости расхаживал из угла в угол салона. Затем махнул рукой, дёрнул длинный шнур колокольчика. Вмиг в салоне появился дворецкий.
– Осип, пришли ко мне управляющего.
Управляющий Евсей явился незамедлительно и, склонив в поклоне голову, зычным басом оповестил:
– Слушаю приказания, вашество.
– А помнишь ли ты, Евсей, спорные земли наши с помещиком Барыкиным? У Деснянской затоки…
– Как не помнить, вашество. До сих пор так и стоят в запустении.
– Барыкин вот уже год как преставился, а молодой барин за границей и возвращаться, по-моему, не собирается. Там и постройки какие-то, припоминаю, имеются…
– Точно так-с, вашество.
– Пошли Сеньку показать место этим горемычным. Пусть поселяются.
Евсей оглядел просителя, радости при этом не испытав, но ничем и не выказав неудовольствия. Вместе с гостем он двинулся к выходу.
– Эй, как тебя? – генерал окликнул раввина. – Крестьяне у меня народ не злобивый, но суровый. Как примут иноверцев, не знаю. Шалить не будете – авось, приживётесь.
– Мы люди работящие, горя хлебнувшие, век не пожалеете, – раввин поклонился до пола.
Так на краю огромного Остёрского поместья князей Еланских поселилась маленькая еврейская община…
…А тут подоспела Великая Октябрьская. Хотя была она никакой не Великой и, как потом оказалось, даже не Октябрьской, а просто к осени 1917 года граф Львов и трусоватый Керенский чётко осознали, что править державой, да ещё во время мировой войны, – это вам не писать прокламации да выкрикивать с думской трибуны замшелые постулаты о демократии, равенстве и братстве. И пока адмирал Колчак и генерал Корнилов рвались в верховные правители, власть в стране упала в руки никому не известной партии социал-демократов, последние лет десять болтавшихся по разным столицам Европы. Недолго мудрствуя, большевики, так странновато назвало себя левое крыло этой партии, напоили вином из бадаевских погребов несколько сот морячков, которые перебили полтора десятка юнцов из юнкерского взвода защищавших Зимний дворец и, войдя в него, объявили себя российской властью, присовокупив красивое слово «советская». А так как боевые генералы, дворянство и купечество ни в какой советской власти обитать не собирались, разразилась братоубийственная Гражданская война, унёсшая за три года от голода, болезней и погибшими в боях почти половину населения некогда великой державы.
Все эти бурные события поначалу обходили стороной укрывшееся в черниговских лесах остёрское поместье Еланских. В марте 1918 года после мистической смерти генерала Корнилова под Екатеринодаром его адъютант, полковник Владимир Еланский, споров знаки отличия Добровольческой армии и водрузив на их место боевые ордена царской армии, прикрылся шинелью и отправился пешком к родному остёрскому дому, где его вот уже пятый год ждала невеста, графиня Варенька Самарина.
Через несколько месяцев, перейдя несколько фронтов, исхудавший и больной Владимир подошёл к воротам усадьбы. Света нигде не было видно, дом как будто вымер. И только внимательно приглядевшись, он увидел в окне одного флигеля трепещущий огонёк.
Дверь открыла Варенька. Всмотревшись в высокого бородатого мужчину в грязной солдатской шинели, она на пару шагов отступила в дом, а затем, распахнув руки и повиснув у жениха на шее, зашлась в безумном крике:
– Володенька, Володенька, живой!
И, если бы не подошедший Осип, оба рухнули бы на ступеньки крыльца.
Прошло больше недели. Когда поначалу метавшийся в горячечном бреду Владимир стал приходить в себя, к нему в комнату зашёл теперь редко встававший с кровати генерал. Присев на край постели больного, старый князь долго смотрел на измождённое лицо сына и, тяжело вздохнув, спросил:
– Как же ты, боевой офицер, кавалер Георгия, мог оставить армию, да ещё в трагический момент гибели командующего на поле брани? Бедный Лавр… – генерал перекрестился.
Владимир смотрел в потолок. И, с трудом выговаривая слова, ответил:
– Генерал Корнилов погиб не в бою. И именно его нелепая смерть – шальное ядро влетело в окно дома, где отдыхал генерал, – указала мне, что это не моя война. Ты знаешь, во время мировой я участвовал в самых горячих сражениях, брал с генералом Селивановым неприступный Перемышль, участвовал в Брусиловском прорыве. Кстати, Алексей Алексеевич даже не вступил в Добровольческую армию…
Владимир тяжело задышал: видимо, последние силы оставили его. Отвернувшись к стене, он затих.
Князь поднялся и, склонив седую голову, вышел из комнаты.
Только через несколько дней, когда Владимир смог подняться с постели и сделать несколько шагов по комнате, продолжился их прерванный разговор. Накинув халат, Владимир открыл дверь в бывшую Варину гостиную и замер на пороге. С ужасом и недоумением он увидел, во что превратилась некогда любовно и со вкусом обставленная комната. Сейчас она представляла собой тесный склад, заполненный разномастной мебелью из главного дома. Только теперь он до конца осознал, в каком положении оказалась его семья.
С трудом протиснувшись между сервантом и покосившимся платяным шкафом, Владимир увидел на стене портрет Вареньки, написанный часто гостившим в имении Еланских Валентином Серовым. Юная графиня Самарина смотрела на Владимира широко распахнутыми глазами, а на губах её играла беззаботная девичья улыбка. Род Самариных брал своё начало ещё от Рюриковичей и потому был особо почитаем в среде московского дворянства. Но рано потерявшая родителей Варенька воспитывалась у родственников по материнской линии – Трубецких. Познакомились они на балу в Английском клубе в первый же год, когда графиня стала выезжать в свет. Ей представил Владимира кузен Никита Трубецкой, однополчанин молодого поручика Еланского.
Распорядитель бала объявил мазурку. Владимир Еланский, поклонившись, спросил, никому ли не обещан танец.
– Нет. Мы только приехали, – покраснев, ответила графиня.
– Тогда соизволите составить мне пару?
Варенька, помедлив, кивнула, и они влились в поток танцующих. После смены партнёров, когда Варенька вернулась к Владимиру, он чётко осознал, что эту талию хотел бы обнимать до конца жизни.
– Почтеннейше прошу записать все оставшиеся танцы за мной.
– А разве так можно? Что скажут люди?
– Если очень хочется, то можно. А люди всегда о ком-то говорят. Для этого и существуют балы. Хотя о нас с вами, я уверен, никто ничего плохого сказать не посмеет.
Варенька снова покраснела и, взглянув на открытое, красивое лицо Владимира, положила руку ему на плечо. Зазвучал полонез.
Через полгода, когда лейб-гвардии Черниговский полк покидал московские квартиры и отправлялся на учения, князь Владимир сделал Вареньке Самариной предложение, которое было благосклонно принято и самой графиней, и её опекунами.
Условились, что по окончании манёвров Владимир возьмёт отпуск и они поедут в летнее имение Еланских получать благословение его родителей.
Молодые люди прибыли в остёрское имение в начале августа 1914 года. И, получив благословение князя Сергея Аристарховича и его супруги Гликерии, назначили свадьбу через месяц в петербургском дворце Еланских. А через неделю император Николай II объявил о вступлении России в войну и всеобщую мобилизацию. Генерал и поручик Еланские получили предписания явиться по месту службы.
Прощаясь с невестой, Владимир попросил Вареньку дождаться его возвращения здесь, в остёрском имении, что она с благодарностью приняла.
На следующий же день мужчины отправились на фронт.
Через год, в 1915-м, генерал Еланский по возрасту и состоянию здоровья был с почётом отправлен в отставку и вернулся домой. А ещё через полгода умерла его жена – княгиня Гликерия. Огромное имение осталось на попечении старого князя и Вареньки.
Стряхнув эти приятные и тяжёлые воспоминания, Владимир даже как-то взбодрился. Он жив, Варенька рядом, положение тяжёлое, но не трагическое. Настоящая трагедия – это братоубийственная война.
Протиснувшись наконец в коридор, Владимир направился к спальне отца.
Застал он его за странным занятием: князь спарывал генерал-полковничьи погоны с парадного мундира. И, управившись, сложил их поверх боевых наград в резную дубовую шкатулку.
– Ну вот, – прохрипел генерал. Видно было, что каждое движение даётся ему с трудом. – Регалии упрятаны. Ты свои ордена и погоны тоже уложи сюда. На пару у нас с тобой орденский набор – иной фельдмаршал может позавидовать.
– Зачем это, отец?
– Закопай в саду и место приметь. Потомкам покажешь: при любой власти пусть знают, что пять поколений князей Еланских кровь проливали за Россию-матушку. А многие и голову сложили на поле брани.
Он перекрестился, поцеловал орден Святого Георгия и передал шкатулку сыну.
Как будто обессилев, старый солдат прилёг на кровать, а Владимир присел рядом на кушетку.
– Расскажи, отец: как вам жилось все эти окаянные годы? Что сейчас происходит в поместье?
– Нет уже, Володенька, никакого поместья. Всё прахом пошло. Поначалу все эти страшные события обходили нас стороной. Козелец, что в двадцати верстах от нас на Черниговском тракте стоит, разграбили большевики и народ по миру пустили. Хороша власть народа! А нас как бы пока не замечали. Но недолго. Как-то поутру слышу конский топот, изрядный, не меньше эскадрона. Смотрю в окно: на шапках вместо кокард красные ленты. Ну, понял: пожаловали. Во двор въехал на гнедом коне командир – любо-дорого посмотреть. Выправка кавалеристская, в портупеях крест-накрест, конь под ним так и пляшет – горяч гнедой, но послушен. Лицо, смотрю, у поганца вроде знакомое. Понял: из бывших. Тот по всей форме представился: «Комдив Примаков, прибыл по распоряжению губернской чрезвычайной комиссии произвести обыск барского дома. Изъять драгоценные предметы, лошадей, скот и продуктовые припасы». Я его тогда и вспомнил: он у тебя при галицинском деле ещё в 1914-м не то унтером, не то прапорщиком служил и в штаб ко мне с донесениями прибывал. Он меня тоже узнал, но виду не подал. Хотя и разбойничать особо не стал. Всё ценное из главной усадьбы, конечно, забрали, скот и лошадей увели, зерно конфисковали. Но не всё: крестьянам на посев оставили, да и пару лошадей и коров с телятами. После этого мы в Варенькин флигель и перебрались. Кое-какую мебель из дома забрали. С тех пор теснимся здесь. Да и то сказать, осталось-то нас: я, Варенька и Осип с женой Дашей. Ну и вот ты, слава Господу, вернулся.
– Ну а что на фронтах происходит ты, конечно, отец, не знаешь?
– Почему это не знаю? Всю диспозицию юга Украины в голове держу.
– Откуда же сведения?
– Так управляющий наш бывший, Евсей, теперь ихними «советами» командует. Вот ещё чего понять не могу: что это за «советы» такие и с кем они всё советуются? Видимо, друг с другом. Да леший с ними. В общем, теперь Евсей у нас за главного. Но старого командира не забывает. Каждое утро Осипу передаёт сводку с фронтов и для меня иногда газетёнку черниговскую. Так что расстановку сил приблизительно представляю.
– И как ты оцениваешь положение нашей армии?
– Как сложное, но пока не безнадёжное. Тут ко мне приезжал черниговский помещик Черной, я его ещё по Балканскому походу помню. Он у меня в дивизии полком командовал. Картёжник и пьяница, но храбр. В 1916-м был ранен под Верденом и вышел в отставку. И что ты думаешь: собрал в Чернигове почти три тысячи сабель, почитай дивизию, присвоил себе звание генерала от кавалерии. Явился ко мне в бурке с газырями, в генеральской папахе. Советовался, не принять ли ему бой под Черниговом, куда движется дивизия Крыленко…
– И что ты посоветовал?
– Какой бой? У Крыленко почти десять тысяч бойцов. А с левого фланга махновцы кругом посты расставили. В тылу Пархоменко расквартировался. Так что и манёвра нет, и отступать некуда. «А делать тебе, Григорий, вот что следует, – сказал я ему. – Прорывайся с боями на юг к Петру Николаевичу Врангелю под крыло. Если я правильно мыслю, туда с Дона движется Антон Иванович Деникин. Глядишь, в Тавриде сильный форпост сложится. Отстоите Крым – может, и во всей кампании перелом наметится…» Ну вот, в фронтовых делах я тебя просветил. Теперь давай подумаем, как жить дальше будем.



