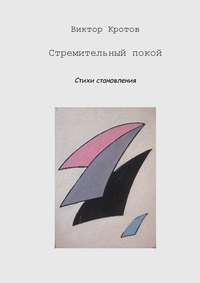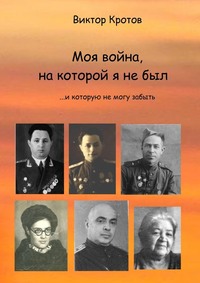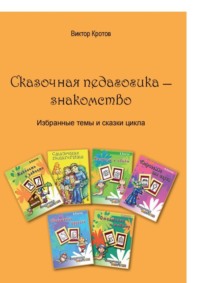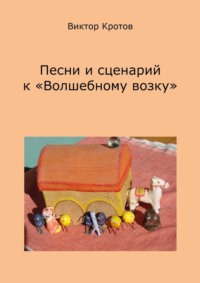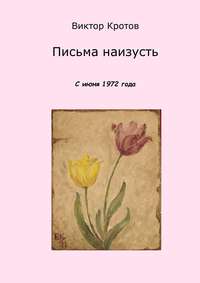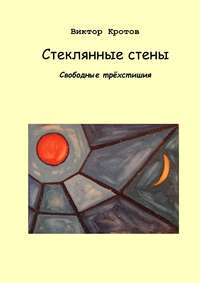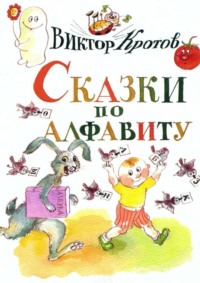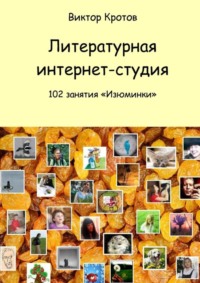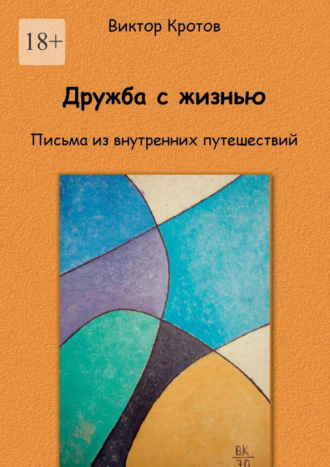
Полная версия
Дружба с жизнью. Письма из внутренних путешествий
А пока, прощаясь в очередной раз, скажу так:
Сама наша жизнь – это постоянное увязывание. Каждый человек – узелок мироздания, и хочется быть прочным узелком.
Как убедиться в сказанном
Письмо о практике уважения к разуму
Очень хотелось бы, друг мой, убедить тебя в том, что все сообщения в моих письмах, которые могут показаться слишком обобщёнными и абстрактными, имеют реальное практическое применение. Однако я вовсе не уверен, что мне это удастся. Зато ты можешь убедиться в этом сам. Если, конечно, возьмёшься за испытания такого рода: опробовать то, о чём идёт речь, в реальной жизни.
Особенно полезно это для практических приложений уважения к разуму – хотя бы для трёх его основных путей. Попробую постепенно уточнить, что я имею в виду.
Если говорить об осмысливающем зрении разума, то первое практическое применение его – вглядываться во всё, что тебе интересно. И когда интересно многое, то это лучше, а не хуже. Если вглядываться.
Мышление – зрячий свет – это вовсе не обязательно теоретизирование, глубокомысленная задумчивость или умничание, у него другое назначение. Если использовать мышление для ориентирования в жизни, оно окажется весьма практичным свойством. Да наверняка ты сам это замечал, я просто напоминаю.
Существенной стороной применения разума ко всему, с чем имеешь дело, является равновесное использование улавливающего мышления наряду с выстраивающим. Не противопоставлять разум интуиции и образно-метафорическому восприятию явлений, а пользоваться всем спектром зрячего света и брать на вооружения внерациональные находки наряду с рациональными построениями.
Большую роль в практическом применении разума играет мультивзгляд: развитие навыка смены ракурсов при желании как следует понять то или иное явление.
Впрочем, может быть, я не с того начал. А надо бы начать с развития самого навыка думать, с мыслеприимства. Чтобы и возникающие проблемы учиться решать, и просто открыть доступ к себе для интуиций и озарений…
Кстати, вполне практично было бы не воспринимать свой разум как некую заслугу, уязвляя окружающих непрошенной проницательностью, подчёркивая, что лучше них понимаешь их внутренние мотивации – мол, я тебя насквозь вижу. У каждого есть не только физическое личное пространство, но и психологическое. Не стоит нарушать его без особой необходимости.
Различные развороты самовосприятия тоже не сводятся к чисто умозрительным картинам. То, как мы воспринимаем свой внутренний мир, своё сознание, себя самого в виде множественности различных свойств или некой цельности, не может не иметь практических последствий для нашего поведения, для взаимодействия с окружающим миром и с окружающими.
Среди представлений о себе как о цельном существе бывают и такие, которые вполне прагматичны, но могут препятствовать некоторым направлениям развития. Скажем, представление о себе как об интеллекте предрасполагает к отказу от внерациональных, внеинтеллектуальных ценностей – или, по крайней мере, к их сдвигу на периферию внимания.
Чтобы избегать «слепых пятен» в самовосприятии, стоит практиковать применение к себе разных способов видения себя как цельности. Всякий разворот тут полезен: я-личность, я-интеллект, я-душа, я-человек, я-живое-существо, я-творение, я-творец, и так далее.
Когда мы воспринимаем себя как множественность (как внутренний мир, сознание, психику и пр.), то переходим на более конкретный, детальный уровень. На этом уровне мы встречаемся со своими внутренними реалиями, а самое главное – участвуем своим вниманием в их проявлениях, в их развитии и взаимоотношениях. Поэтому и тут полезны различные развороты самовосприятия, каждый из которых может по-своему быть полезен для гармонизации чувств и эмоций.
В то же время не стоит использовать тот или иной способ самовосприятия для того, чтобы предаваться самонеприятию. Например, тратить ум на обличение собственной глупости. Сопровождать восприятие чужих достоинств сетованиями на своё ничтожество. Расходовать память на коллекционирование эпизодов своей забывчивости… Неприятие себя – это слепота или подслеповатость, мешающая пониманию внутренней реальности.
В том, что касается увязывания, практические стороны применения разума проглядывают наиболее ясно. Ведь каждый из нас старается так или иначе справиться с теми неувязками, с которыми встречается в жизни. Каждый раз, когда это удаётся, мы соединяем между собой те смыслы, связь которых была до этого нам незаметна. Так что человеку естественно искать способы преодоления неувязок, и лучше делать это осознанно.
Большинство явлений, требующих нашего увязывания, относится к обычному житейскому уровню, и тут практическая необходимость преодолевать неувязки достаточно очевидна. Можно сказать, что с житейским увязыванием справляется обычный здравый смысл. Но жизненно важное увязывание ему не по силам, поскольку самых главных для человека проблем он избегает. Поэтому надо понимать, что для нас ещё большее значение, с практическими последствиями, имеют те постижения (а это ведь тоже увязывания), которые связаны с верхними уровнями смысла, а значит с углублённой деятельностью разума.
Главное конструктивное правило увязывания состоит в том, чтобы даже самые заумные теории, с которыми знакомишься, даже самые интуитивные озарения, которые тебя посещают, применять к своей конкретной жизни. Только через такое освоение и усвоение мы переходим от размышлений к жизненному соединению осознаваемых смыслов.
Не будем бояться и обращения к философии – прежде всего, к самим авторам-философам как носителями главного потенциала осмысления жизни. Конечно, мы можем обойтись и без этого, поскольку увязывание доступно каждому из нас, а не только дипломированным специалистам. Не будем себя недооценивать. Однако и переоценивать себя тоже не стоит: не может человек в одиночку додуматься до всего. Чрезмерное самомнение снижает плодотворность собственных пониманий, если они не взаимодействуют с альтернативными взглядами других людей. Вредно отгораживаться от других мировоззрений и способов увязывания.
Развивая собственные подходы к увязыванию наиболее важных для себя явлений, будем избегать претензий на знание истин, верных для любого человека. Мы ни за кого не можем связать вместе то, что он ощущает, чувствует и переживает. Помощь в увязывании – это лишь поддержка увязывающему, а не подмена его усилий своими.
Не потому я стараюсь, друг мой, подчеркнуть практические стороны обращения к разуму, что он, будучи основой науки и техники, снабжает нас дарами прогресса. Этим он занимается, прежде всего, за счёт выстраивающего мышления. Куда более важно подчеркнуть ту мощную работу (тоже, безусловно, практическую), которую он способен произвести внутри каждого из нас на глубинном уровне. Для этой работы улавливающее мышление является не менее необходимым. Без этой практики сбалансированного, согласующего мышления и дары прогресса могут оказаться не столь благодетельными, как иногда кажется.
Так что давай будем не только размышлять на темы разума, но, уважая его, применять в своей жизни ту его творческую мощь, которая и является главным достоинством человеческой жизни.
Путешествие пятое.
Уважение к Тайне и три
одухотворённые надежды
Опираясь на пройденное
Письмо о трёх одухотворённых надеждах
Одно из первых писем, посвящённых внутренним путешествиям, – письмо об уважении к Тайне – наметило самое непростое, но необходимое направление, в котором мы сейчас и постараемся продвинуться. Не буду опережать события и размышлять о том, чем же это направление такое непростое. Может быть, напротив, оно окажется для тебя ясным и светлым, и я первый этому порадуюсь. Сам я долго блуждал, прежде чем сделал первые нужные шаги в эту сторону…
Впрочем, начиная этим письмом пятую главу, напомню о предыдущих.
Первая глава этих «Писем из внутренних путешествий» была вступительной, предупредительной, тренировочной – она проясняла мои авторские намерения в ориентации на твои читательские, друг мой. Во второй главе речь шла о центральной метафоре, про которую мы постараемся не забывать: о дружбе с жизнью, основанной на трёх великих уважениях. Имеются в виду уважение к жизни, разуму и Тайне. Третья, четвёртая, а теперь вот пятая главы являются углублениями в каждую из этих особых тем, ведь каждое из трёх великих уважений является одной из опор дружбы с жизнью.
Итак, о каких же одухотворённых надеждах пойдёт речь в письмах этой главы, углубляющей тему уважения к Тайне?
Первая из них – надежда на то, что безграничный океан Тайны, простирающийся вокруг островка, сосредотачивающего и символизирующего наши знания, то есть знания всего человечества, пронизан смыслом. Надежда на то, что те смыслы, которые нельзя вытащить на берег рационального познания, тем или иным способом всё-таки доступны нам и их значение для нас чрезвычайно велико.
Вторая надежда тесно связана с первой. Надежда на то, что в области Тайны существуют особые верхние уровни смысла, прикосновение к которым одухотворяет всё, чем живёшь, и поддерживает тебя в трудные минуты. Уровни, которые помогают осмыслить любые проблемы, даже самые неразрешимые, с точки зрения житейского разумения. У каждого могут быть свои опоры, относящиеся к верхним уровням смысла, достойные признания уже потому, что для кого-то служат опорой.
Не знаю, можно ли придти к третьей надежде без первых двух. Это надежда на то, что взгляд, устремлённый за пределы нашей земной жизни, встретится не с кромешной тьмой или полной пустотой, а с чем-то значительным для нашего сегодняшнего существования. Надежда на неугасимость того смысла мироздания, к которому мы ощущаем себя причастными.
Имею ли я право писать об этих тонких надеждах?.. Ведь я не визионер, не экстрасенс, чувствительный к сигналам из других пространств. Наверняка многие способны сказать об этом более весомо и выразительно. Но в то же время не могу не свидетельствовать о том, что мне удалось понять, углубляясь в мир взаимоотношений с Тайной и встречаясь с важнейшими для себя открытиями.
Так что тебе, друг мой, придётся самому решать, насколько достоверны мои свидетельства – не претендующие на доскональное знание, которое здесь невозможно в принципе. Возможно, в чём-то мои понимания могут показаться фантастичными, смутными или слишком экзотичными, как рассказы путешественников античных времён или средневековья. Могу только заверить, что для меня это всего лишь возможность честно засвидетельствовать своё восприятие жизни, и я склонен обдумывать, а не придумывать.
Последнее письмо этой главы будет посвящено, как и в предшествующих главах, практическим сторонам затронутых тем. Здесь, во владениях Тайны, особенно важным представляется показать, что всё сказанное имеет непосредственное отношение к реальным сторонам жизни, хотя и выходящим за рамки чисто житейских забот.
Что ж, друг мой, я буду рад, если ты позволишь мне составить тебе компанию в очередном увлекательном путешествии – к трём одухотворённым надеждам. Из него мы вряд ли вернёмся без внутренней добычи. Причём не нанесём никакого урона мирозданию. Может быть, даже внесём свою лепту в его процветание.
Океан вокруг островка
Письмо о знании и Тайне
Ну вот, друг мой, мы и вышли к берегу океана. Да ещё какого!.. Не зря я вовлёк тебя в эти внутренние путешествия…
Не обнаружить Тайну трудно, овладеть ею невозможно.
Речь пойдёт об очевидном и в то же время поразительном соотношении совокупности всех накопленных человечеством знаний с той бескрайней областью Тайны, к которой принадлежит всё остальное. Познание – естественный для человека процесс, вытекающий из стремления к увязыванию. В то же время область познанного всегда окружена непознанным и непознаваемым, то есть областью Тайны, которая заведомо превосходит область наших знаний.
Все знания человечества за всю его историю можно сравнить с островком в океане Тайны. Причём этот метафорический океан – ещё более естественная среда жизни, чем островок знания. Поэтому не стоит ни бояться этой океанической стихии, ни сторониться её, стараясь укрыться в обжитых местах подальше от побережья. Тем более что оно рядом с каждым, кто внимателен к миру.
Эта метафора охватывает не только круг научно-материалистических знаний. Ей вполне соответствуют и самые привычные по-житейски явления. Например, поступки и переживания людей, даже наиболее нам знакомых, уходят в глубины их сознания и подсознания, неуследимые для нас. В этих глубинах царят силы нам досконально не известные, а чаще неизвестные вовсе.
Чем шире граница познания, тем больше загадок бытия.
Островок в океане – символический образ соотношения рационального знания с Тайной, а не физическое уподобление. Можно попробовать сделать метафору более объёмной. Например, вместо островка в океане говорить о планете знаний во вселенной Тайны. Но в скольких бы измерениях мы ни рисовали планету знаний, для вселенной Тайны их понадобится куда больше. В то же время это уводило бы нас от духовного осмысления области Тайны, а ведь именно оно важнее всего для человека. Дело не в том, сколько непознанного вокруг, или даже непознаваемого, но в необходимости жизненной ориентации среди того, что недоступно рациональному познанию в принципе.
Океан Тайны – это естественная среда нашего обитания, включающая и островок знания, намытый культурой человечества. Этот остров, на самом деле, – огромный мир человеческой культуры и выглядит миниатюрным островком лишь в сравнении с океаном. Пространство Тайны превышает наше воображение и наполнено смыслом, превышающим нашу понятливость. Это стихия, необозримо уходящая вширь, вглубь и вверх. Этот бесконечный океан не только окружает наш островок знания. На самом островке тоже всё пропитано Тайной.
Берега нашего островка, выходящие к побережью океана, – это те пределы, за которые не выходят здравый смысл, рациональный ум, обыденный рассудок. Но разуму под силу бросить взгляд за эти пределы. С расширением острова человеческих знаний неизбежно изменяется, удлинняется его береговая линия, граничащая с океаном Тайны. Значит, и загадок бытия становится не меньше, а больше. Ещё точнее, чем образ островка, был бы образ архипелага – больше соответствующий представлению об окружённости Тайной.
Островок познания порождён океаном Тайны.
Хотя наш островок знаний ничтожно мал по сравнению с Тайной, для нас он неизмеримо велик. Отдельный человек не в состоянии вместить и доли процента знаний человечества. Гордиться тем, что ты что-то знаешь, – всё равно что гордиться, что ты знаком с таким-то количеством людей. Незнакомых всё равно неизмеримо больше, а знакомые всё равно остаются загадочными для тебя.
То, что мы называем познанием, обычно сводится к расширению рационального знания, основанного на выстраивающем мышлении. Именно о таком познании сказано: «Во многой мудрости много печали, и кто умножает познания, умножает скорбь». Такое познание представляет собой крупицы, намытые из океана Тайны, из них и состоит островок рациональных человеческих представлений. Разгадывать секреты мироздания – замечательное и увлекательное занятие. Надо лишь помнить, что разгадать до конца можно только загаданное человеком.
Хочется надеяться, друг мой, что ты не являешься убеждённым островитянином, воспринимающим рациональные знания единственно ценными и не обращающим внимания на расстилающийся вокруг океан. До какого-то возраста я сам был таким энтузиастом рациональных знаний.
Основы мировоззрения закоренелого «островитянина познания» (можно назвать такое мировоззрение познающим рационализмом) сводятся примерно к следующему:
– Всё, что неизвестно человечеству, в принципе познаваемо: не сейчас, так позже.
– Возможности человеческого разума безграничны.
– Все истины относительны, но с их помощью мы постепенно уточняем картину мира.
– В основе религии лежат или человеческая фантазия, или древняя мифология, или сознательное манипулирование.
– Вера – это социально-психологическое переживание, взлелеянное религией.
Всё это означает, что океан Тайны для такого островитянина – всего лишь акватория, подлежащая исследованиям, которые расширяют родной остров.
Разгадки Тайны приблизительны, но упоительны.
Учёные наиболее патриотичны по отношению к острову знания – даже те из них, кто занимается глобальным изучением океана Тайны. Ведь островная-познавательная патриотичность обеспечена не столько предметом научных интересов (они могут быть чрезвычайно разнообразны, могут быть устремлены далеко и глубоко), сколько опорой на выстраивающее мышление. А для него «Тайна» – лишь романтическое название гигантской кладовки пока не познанного. Непознанного, но познаваемого.
Можно сказать, что островок знания – это оплот нашего выстраивающего мышления среди Тайны, из Тайны вырастающий и Тайной пропитанный. И наука – оплот этого оплота. Что ж, рационализм – один из способов всматриваться в Тайну, добывать из неё знание (правда, только рациональное). Правда, когда учёный пытается избавиться от Тайны в полученных результатах, она лишь временно ускользает из его поля зрения, но никогда не исчезает полностью.
Ориентированный на науку ум способен вынести на побережье частицы глубинных тайн океана. Однако что происходит, когда познание отвоёвывает у непознанного частицу неизвестности или неопределённости, превращая её в крупицу знания? Частица, превращённая в крупицу, обретает некие рациональные очертания, обретает словесное обозначение, качественное и количественное описание. Но она сохраняет за собой связи с непознанным, которые остаются неизвестными. Эти связи уходят и вширь, к более масштабным макромирам, и вглубь, к микромирам всё меньшего масштаба. Да и многие соотношения этой крупицы знания с другими явлениями остаются тайной… Вот почему любой акт познания сохраняет условность, а непознанное правильнее считать неисчерпаемой областью Тайны.
Впрочем, познающий рационализм боготворит науку, поскольку она представляется ему несомненным подтверждением могущества человеческого разума. Тем более что она питает научно-технический прогресс, несущий множество удобств и забав для повседневной жизни
Наиболее свободомыслящие и глубокие учёные, не ограниченные внутренними рамками познающего рационализма, склонны уважать Тайну на уровне личностных убеждений. Проявляется это иногда и на уровне методики выстраивающего мышления: например, всякая гипотеза – это капля уважения науки к Тайне. Но когда учёный поддерживает претензии науки на всеобъемлющее знание – это странно. Любой святой знает больше, чем любой учёный.
Область Тайны не нуждается, чтобы мы верили в неё или не верили, она просто есть.
Никакие завоевания познания, которыми мы гордимся, не устраняют Тайну и даже не уменьшают. Что же это такое – Тайна? Может, правильнее её называть истиной? Нам не ответить на это, ведь человеку невозможно полностью знать ни Тайну, ни истину, принадлежащую к верхним уровням смысла. Но чувствовать истину, ориентироваться на неё – возможно.
Может быть, океан Тайны – это и есть Бог? Но ведь Он ещё и Личность. И это единство Личности с океаном Тайны тоже таинственно. И остерегает от чрезмерного фатализма, порождённого представлением о необъятности Тайны. Такой фатализм может обезволить человека, если не исходить из доверия к жизни и к тому Высшему, которое стоит за ней. Океан Тайны велик и неизведан, он всегда останется таким. Но это не значит, что нужно держаться подальше от него, в уюте привычного и известного. Океан этот питает нашу жизнь, и простор его всегда открыт для путешественника.
Наши представления о мире находятся между очевидностью и Тайной. Парадокс в том, что очевидность тоже полна Тайны. Все рациональные доказательства восходят к аксиомам, вне которых простирается Тайна. Аксиома – стартовая площадка у границы с Тайной. Отсюда начинается любая цепочка выстраивающих рассуждений. И многие держатся за эту исходную позицию, за приоритет знания именно потому, что считают приоритетным выстраивающее мышление. Улавливающее мышление тревожит нерегламентированностью. Хорошо бы понимать, что знания – это лишь кончики нитей, уводящих в Тайну. Но их пёстрый узор зачастую тешит человеческое самодовольство.
Можно держаться за лозунг «Знание – сила». Но Тайна – это свобода. В частности, свобода от того принуждения, к которому склонна всякая сила, даже знание.
Знание необходимо не как уход от Тайны, а как усиление внимания к ней.
Область Тайны не только раскинута океаном, но и присутствует во всём, что находится на островке знания. Тем более когда речь идёт о жизни. Это так же парадоксально, как противопоставление воды и суши: ведь на суше вся жизнь тоже зависит от воды и пропитана ею. Образ океана Тайны – лишь предварительный взгляд на эту особую для человека область бытия. Пространство Тайны пронизывает всё существующее и говорит нам не о возможности обладать какими-то её кусочками, а о нашем собственном месте в единстве мира и о мере нашей способности принять иные явления, соседствующие с нами.
Если бы я был философствующим физиком, то постарался бы открыть наимельчайшие частицы Вселенной, их можно было бы назвать «тайнионами» – некие кванты Тайны, меньше которых нет ничего (разве что другие тайнионы, ещё мельче). Вот из этих частиц и состоит океан Тайны.
Но существует и некое отрицающее отношение к Тайне, которое можно назвать обестайниванием или детайнизацией действительности. Прежде всего, это разделение жизни на знание и незнание в предположении, что всё может быть познано, дайте только время прогрессу. Отгораживаясь от океана Тайны, даже убеждая себя, что его не существует, что это просто пока неизвестное, детайнизатор видит единственную опору в знании. Однако подлинные, духовные наши опоры именно там, в океане Тайны, признаём мы его существование или не признаём. Но если не признаём, труднее овладевать умениями плавать и летать.
Знание, разумеется, необходимо человеку, а невежество заслуживает сожаления. В то же время не всякое знание можно считать разумным и не всякую критику знания следует причислять к невежеству. Разумное знание – это не уход от Тайны, не подмена уважения к ней интеллектуальной самоуверенностью, оно лишь усиливает внимание к её свойствам.
Можно сказать каждому: не гордись островком знания, но и не чуждайся его. Не бойся Тайны, не отвергай её, а уважай её размах и проникновенность.
Знание – это частичное проявление Тайны, осмысленное человеком.
Знание и Тайна – вовсе не полярные противоположности. Знание – это степень отражённости мироздания в сознании человечества. Оно не устраняет Тайну, а лишь углубляется в неё. Их незачем противопоставлять. Знание – это частица Тайны. Частица, на поверхность которой упал лучик твоего разума. Человек добывает знание из Тайны вместе с самой Тайной.
Так что признание Тайны не отменяет познания. Но меняет его стилистику и степень приоритетности. Как в любой отрезок входит бесконечное количество точек, так и в каждом известном нам свидетельстве о мире неявно присутствует бесконечное число неизвестных нам уточняющих подробностей из области Тайны.
Человеку хочется порою думать, что знание – это некая форма информационной (или даже интеллектуальной) собственности, раз он владеет этим знанием. Ничего подобного. Скорее он зацепился за что-то выдвинувшееся из Тайны и дополняет его своим воображением, мысленно хозяйничая в Тайне, как в своей вотчине. Отцепись. Дай Тайне владеть тобой – и будешь свободен. И все твои знания будут выглядеть по-другому.
Соотношение знания и Тайны – вопрос не количественный, а качественный, поскольку именно качество знания зависит от уважения к Тайне. Безотносительное к ней знание может быть утилитарным или житейским, может быть увеселяющим эрудицию, ублажающим любопытство или позволяющим делать деньги. Но чем ближе к границам познания, чем одухотворённее искатель, тем лучше он ощущает участие Тайны в своих поисках. Знание, добытое им, несёт не только информацию, но и само дыхание Тайны, на которое прагматичные познаватели не обращают особого внимания. А зря. Именно признание Тайны, уважение и чуткость к ней позволяют двигаться по её течениям к тому, что важнее любых оприходованных знаний.
Ко многому из принадлежащего океану Тайны, можно прикоснуться. Эту возможность человеку дают его главные чувства и проникновенная сила интуиции. Ведь мы повседневно встречаемся с проявлениями Тайны в нашей жизни. Важно замечать их. А что-то из океана Тайны может само прикоснуться ко мне: озарением, чудом или внутренним призывом. Главное – суметь воспринять это и, может быть, суметь отозваться.