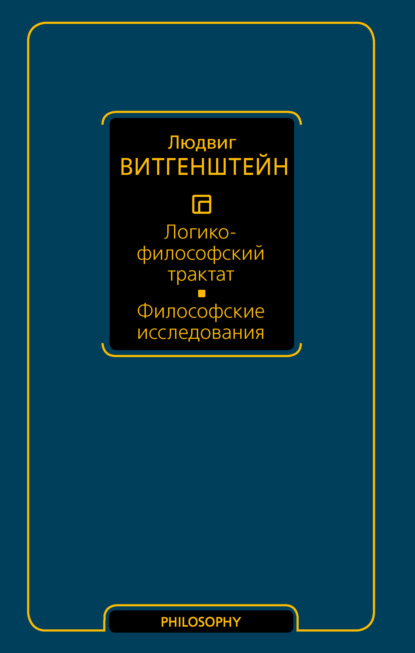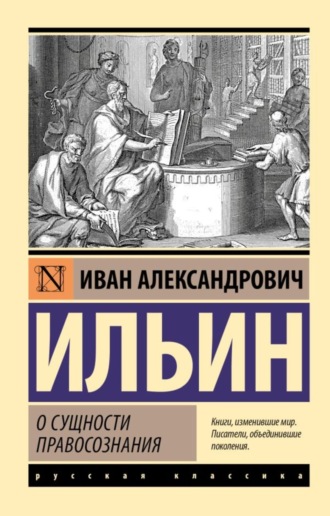
Полная версия
О сущности правосознания
Понятно при этом, что любезность для своего развития более нуждается в наличности этой интеллектуальной культуры, чем деликатность, ибо деликатность со своим чутким, «сочувствующим» приспособлением к чужому душевному состоянию интуитивно получает и восполняет то, что более сухая и формальная любезность вынуждена добывать на обходном пути размышления. Это и объясняет отчасти то обстоятельство, что, напр., русский крестьянин, которому любезность вообще мало знакома, проявляет иногда такую тонкую деликатность, которая может приковывать к себе своей внутренней красотой.
Так или иначе любезность предстает перед нами как своего рода этическое, эстетическое и интеллектуальное жизненное творчество, осуществляющееся в обычном общении людей и направленное на придание нашим проявлениям в общении социально безболезненной формы.
IV
Всякий поступок может рассматриваться как проявленное душевное состояние. Если мы возьмем сторону проявления, то мы без труда заметим, что психическое взаимодействие людей имеет именно с этой стороны известные повторяющиеся типические черты, которые сводятся к нескольким основным видам; эти основные виды мы можем назвать способами проявления. Сюда относятся: слово, жест, мимика, положение тела вообще и целый ряд движений, служащих для проявления не непосредственно. Отсутствие проявлений вообще или того или иного вида проявлений рассматривается в общении как своего рода «проявление», ибо даже обморок или столбняк дает возможность заключить к известному душевному переживанию. Молчание, неподвижность, устремление взора в одну точку, уход являются в общении такими же проявлениями, хотя, может быть, непреднамеренными и менее понятными, как и поток кудрявых фраз, присылка букета, поздравление по телеграфу или удаление со стены известного портрета к приходу гостя. Понятно, что душевное состояние отыскивает для своего проявления такое своеобразное сочетание различных способов, которое выражает его с большей или меньшей верностью и точностью. Это-то сочетание различных способов, намеренно или ненамеренно выражающее и передающее в общении какое-нибудь душевное содержание – мысль, настроение, хотение и т. д., мы и назовем формой проявления. Конечно, верность и точность, т. е. возможно полное соответствие тому, что передается, – не единственные требования, предъявляемые обычно к этой форме. Мы говорим еще о понятности, изяществе проявлений и т. д. и, наконец, о приятности и неприятности их формы для тех, кто их воспринимает.
Прежде всего, любезность несомненно требует, чтобы форма проявления была возможно менее неприятна и возможно более приятна другим членам общения, т. е. чтобы все, что проявляется, раз оно уже проявляется, проявлялось в способах – словах, жестах, интонациях и т. д., – подобранных сообразно с этою целью. Это требование распространяется на все, что находится во власти человека. Бывают случаи, когда эти требования заходят и дальше, чем можно и должно; был, напр., случай, когда известный оперный певец произвел на одну даму нелюбезное впечатление потому, что говорил свойственным ему низким голосом. Но такие недоразумения объясняются, конечно, тем, что природа любезности остается иногда совершенно неосознанной. Одно и то же душевное состояние может быть выражено на тысячу различных ладов, и недостаточный учет того, что известные способы могут быть неприятны другим членам общения, ведет к «нелюбезному» проявлению и сам по себе оказывается нелюбезностью. Самодовольный поток речи, насмешливое или высокомерное выражение лица, манера цедить слова сквозь зубы, сидеть к собеседнику боком или отворачиваться во время ответа или, напр., привычка прерывать свою речь внезапным и категорическим «что?!» – все это может быть само по себе неприятно, независимо от передаваемого содержания. Любезность требует, чтобы все, что может быть предвидено, было учтено и устранено, и хотя она знает «извиняющие» мотивы, но в самом извинении скрыто уже требование и предписание; любезность требуется от каждого, поскольку у него нет уважительных, освобождающих его оснований, и признание таких оснований свидетельствует о том, что в любезности важно и ценно прежде всего не действительное, может быть, случайно состоявшееся проявление, которое может и отсутствовать, а наличность стремления и хотения или же соответственная уверенность в том, что оно не отсутствовало в момент совершения нелюбезного поступка.
Но если важно следить за формой и в непреднамеренных проявлениях, напр., молчаливый не должен забывать о выражении своего лица, когда он находится в обществе, уходящий должен выбрать удобную минуту и т. д., то тем важнее бывает следить за отсутствием ненужных проявлений или за наличностью проявлений вообще. Есть, напр., случаи, когда любезность требует воздержания от всяких проявлений, напр., чтобы не дать кому-нибудь заметить то неловкое положение, в которое он попал, рассказывая в десятый раз ту же, известную всем историю. Есть другие случаи, когда, напр., молчание само по себе как отсутствие проявлений вообще нелюбезно, если оно слишком долго длится, или применяется повторно к известному лицу, или же прямо свидетельствует о нежелании разговаривать и общаться. Совместная вынужденная езда в купе вагона дает особенно много таких положений, и есть люди, которые из любезности вступают в особые «вагонные» разговоры с соседями, не говорят между собой на иностранном языке (ибо это было бы равносильно отсутствию общительных проявлений для непонимающих) и никогда не берут с собой в вагон «домашней» провизии, избегая как щекотливой роли «угощающего», так и нелюбезного образа действий того, кто удовлетворяет свой голод, не считаясь с ощущениями своих слишком «близких» соседей. Во всех этих случаях любезность регулирует уже не форму совершающихся проявлений, а «формальный» вопрос об их допустимости и необходимости, т. е., говоря более широко, форму общения вообще.
Здесь, конечно, возможны конфликты между различными требованиями и стремлениями, ибо, напр., искренность, дружба или уважение могут вскрыть в том исходе, который подсказывается любезностью, такую теневую сторону, которая изменит наш образ действия или по крайней мере приведет нас в нерешительность. Так, дружеское расположение может побудить нас подчеркнуть наше радикальное неодобрение какого-нибудь поступка длительным нелюбезным молчанием; или уважение к рассказчику может заставить нас постараться о том, чтобы смешное положение, в котором он оказался по рассеянности, кончилось как можно скорее. Тут можно заметить, что любезность, если только она уже не выродилась, имеет свойство бледнеть и отступать на задний план при первом появлении более серьезных, глубоких и, может быть, более связанных с моралью требований и стремлений. Характерным является, напр., случай такого отступления при конфликте между любезностью и деликатностью. Так, любезность, может быть, требует, чтобы мы поздравили того, кто победил в известном состязании; но деликатность может заставить нас воздержаться от этого, если мы заметим, что победитель недоволен своей победой или даже внутренно страдает от нее. Такова своеобразная диалектика, обнаруживающаяся иногда в отношении между любезностью и деликатностью.
Если таким образом любезность как стремление и нормативное переживание влияет на форму проявлений и общения или даже прямо создает ее, то этим, в сущности, ее роль ограничивается. Она не создает и сама по себе не может создавать содержания, т. е. того, что проявляется или соответственно не проявляется в общении, – душевных настроений, переживаний и т. д. Всякая попытка распространить ее влияние на содержание внутренней жизни людей как таковое, поскольку оно не состоит в творчестве формы, придает ей не свойственное ей значение и посягает на самозаконность жизни духа. Вспомним, что любезность основана на сравнительно поверхностном учете чужих переживаний, и редко кто согласится совершать известное внутреннее насилие над собою (заставляя себя переживать что-нибудь чуждое или не переживать что-нибудь органически ему свойственное) только для того, чтобы доставить небольшую приятность мало учитываемым им и, следовательно, в сущности безразличным ему людям. Тот же, кто проделывает над собой эту душевную операцию и производит такое насилие над органическим потоком внутренней жизни, сообразующейся обыкновенно с более серьезными мотивами и целями и подчиняющейся более сильным и глубоким влечениям, вовлекает в общение гораздо более глубокие слои души и применяется или приспособляется к чужому самочувствию или чужим ощущениям более альтруистично, чем это свойственно любезности. Можно было бы сказать, что любезность, вторгающаяся со своими требованиями в сущность проявляемых переживаний, превращается тем самым или же в своеобразно мотивированную симуляцию душевных переживаний в их содержании, ‹или же› в деликатность и любовность и что живущее во всех нас смутное ощущение, согласно которому известному уровню общения соответствует известная доза обходительности, имеет за себя веские основания.
Однако здесь напрашивается как будто возражение. По-видимому, любезность может распространить свои требования и на самые переживания постольку, поскольку она может требовать от нас наличности самого стремления или хотения быть любезным. Можно, подчиняясь требованиям любезности, заставить себя стремиться к ней, заставить себя вызвать в себе любезное настроение и преодолеть это ощущение «мне все равно», которое создается в душе под влиянием утомления или других причин. Однако следует иметь в виду, что одной любезности мало для такого преодоления, что требования любезности слишком слабы для того, чтобы вызвать несуществующее стремление, и что на помощь ей должны прийти мотивы и соображения моральности, ибо требования любезности не переживаются с той мотивирующей и обновляющей наши настроения силой, которая свойственна в переживании категорическим императивам морали.
Если в этом случае любезность находит свою основу, свой корень в переживаниях морали и от них получает свою силу, то именно формальный характер ее дает ей возможность найти себе и противоположный корень в антиморальных движениях души. Любезность сама по себе как бы безразлична к тому мотиву, который вызывает ее к жизни; по крайней мере она легко забывает свою моральную сущность и ту высшую социальную цель, которой она призвана служить. Можно быть любезным, т. е. заботиться о полузаметных приятностях в общении исключительно из своекорыстных целей, и в этих случаях следует говорить о вырождении любезности в корыстную льстивость, лживость, заискивание и т. д. И замечательно, что любезность обнаруживает склонность к такому вырождению именно там, где с высшей, идеальной точки зрения она должна была бы всецело переродиться в деликатность и любовность. В общественной жизни с удивительной быстротой образуются своеобразные очаги выродившейся любезности всюду, где обнаруживается какая бы то ни было концентрация этической (в широком смысле слова) силы, будь то явление общественной власти, индивидуального таланта или даже простой «влиятельности». И морально-трагический характер этого явления совсем не уменьшается оттого, что мы пригляделись к нему и «привыкли»…
Эта способность любезности проявляется при отсутствии искреннего стремления к ней, при отсутствии предполагаемого альтруистического минимума бывает нередко связана с переходом ее из формы в содержание. Тот, кто проявляет любезность неискренно, начинает с особенной легкостью проявлять такие переживания, которые чужды ему в действительности. Здесь образуется некоторый скользкий путь вниз: солгавший в форме незаметно начинает лгать и по существу, иногда уже по одному тому, что одна ложь часто нуждается в другой для своего оправдания и поддержки. В «приятных» проявлениях незаметно утрачивается чувство меры, и любезность вырождается в ряд безвкусных поступков. Такова любезность у людей тщеславных и завистливых: лишенные бескорыстного альтруизма в обыденном общении, они всегда лгут, когда проявляют любезность; нередко они сразу теряют в этих проявлениях чувство меры и вкус и незаметно доходят в комплиментах до Геркулесовых столбов, не замечая того, что окружающие понимают их и испытывают чувство неловкости.
Эта способность любезности уживаться с лживостью обнаруживается, между прочим, в довольно распространенном взгляде на нее, согласно которому она неизбежно связана с известной, хотя бы и минимальной, симуляцией. Фактически это нередко так и бывает, ибо при отсутствии любезного настроения мы симулируем его с большим или меньшим искусством и даже не из корыстных целей, а из убеждения, что лучше симулированная любезность, чем никакая. Принципиальное решение этого конфликта есть дело не социологии, а социальной философии. Заметим только, что есть случаи, где симуляция известного настроения в самом деле есть единственное средство избежать нелюбезности; напр., любезность, по мнению некоторых, требует, чтобы мы «предполагали» в тех, с кем общаемся, одно «хорошее» и чтобы мы не проявляли противоположного настроения, хотя бы оно базировалось на самой достоверной осведомленности. Может быть, во всех таких случаях и следует принципиально отказываться от любезности, но несомненно, что в них она невозможна без симуляции. Есть зато бесчисленное множество примеров, где симуляции не требуется никакой.
Но особенно интересны те случаи, когда люди незаметно для себя распространяют требования любезности на сущность переживаний и поступков не из корыстных видов, а вследствие неправильного понимания этих требований. При этом некоторые действительно заставляют себя переживать проявляемые «для приятности» настроения. Ни деликатности, ни любовности здесь не возникает в полном смысле этого слова, ибо уровень общения недостаточно велик и индивидуализирован для этого. Получается смешанная и внутренно неэстетичная картина: обыденные и сравнительно поверхностные переживания другого воспринимаются как бы через увеличительное стекло и получают в душе воспринимающего преувеличенное значение. Если провести требования любезности последовательно в этом направлении, то доставление ближним поверхностных приятностей общения станет главной жизненной заботой, и человек, любезный «по профессии», сделается в социальной атмосфере чем-то вроде поденщика, разметающего дорожки, по которым он сам ходить не будет. Замечательно, что есть люди, именно так понимающие «любовь к ближнему». В таких случаях душевная энергия начинает затрачиваться нецелесообразно, насилие, которое приходится делать над самим собою, не входит органически в душу, и если только человек не возвел такое поведение в принцип, то в душе остается потом, иногда надолго, ощущение какой-то неловкости и совершённой ненужной не- правдивости. Таково, например, довольно распространенное обыкновение просить фотографическую карточку у всякого, кто показывает сделанный снимок. Эта просьба иногда совершенно не соответствует отношениям, и в таком случае за нею не скрывается искреннего желания иметь изображение снявшегося. Но не просить, когда показывают, – «не любезно», а попросить – значит как бы сказать: «в общении с вами у меня были столь приятные минуты, что я хочу сохранить их ассоциативно и закрепить в объективной форме». А впоследствии просивший не знает, что делать с карточкой, не понимает, зачем он просил о ней, и нередко в душе остается чувство какой-то фальши или как бы неисполненного обязательства, и это чувство переносится незаметно и незаслуженно в виде легкой охлаждающей антипатии на того, кто имел неосторожность показать снимок. И при всем том вполне возможно, что показывавший не рассчитывал на просьбу и отсутствие просьбы совсем не вызвало бы в нем неприятного настроения.
Интересен также другой в высшей степени типичный случай, когда один собеседник во избежание неприятных моментов спора и в ограждение знакомого от ощущений «несолидарности», «непонимания» и т. под. поддакивает ему в беседе, или выражается в смысле не совсем определенного «полусогласия», или же начинает хвалить то, что хвалит другой, смутно чувствуя, что, хваля хвалимое, он тем самым косвенно хвалит хвалящего. Есть даже целый ряд выработавшихся в разговоре словечек, вроде: «это-то конечно», «понимаю, понимаю» или определеннее: «да, да», «само собой разумеется» и т. п. Здесь возможно уже не только наступающее впоследствии ощущение фальши. Если у того, кто соглашается, выработано свое определенное и окончательное мнение по данному вопросу или же оно хотя и лишено такой определенности, но слагается в диаметрально противоположном направлении, то опасность еще сравнительно меньше; в противном случае выраженное согласие имеет свойство легко и незаметно оседать в душе и образовывать ячейку для дальнейшего формирования «своего собственного» мнения. Любезность служит тогда прекрасным орудием для незаметного подчинения среде, и от таких результатов любезного поведения не всегда свободны даже люди с самодеятельным духовным центром. Любезность принимает здесь форму какого-то малодушия, и как часто встречаются пассивные натуры, у которых это малодушие становится одним из главных источников их общего «мировоззрения»…
К таким же результатам ведет нередко требование не расстраивать из любезности компанию или свойственное многим обыкновение заставлять себя из любезности к собеседнику смеяться на неудачные проявления его остроумия и т. п.
Во всех этих случаях важно отметить то обстоятельство, что любезность, распространенная таким образом на сущность проявляемого в общении, утрачивает, иногда всецело, свою социальную целесообразность, внося в общение не уменьшение, а увеличение количества трений. Устраняя эфемерное или неизбежное «формальное» трение, любезность порождает в душе такие настроения и неприятные ощущения, которые отзываются иногда роковым образом на самой сущности общения. Возможность избежать сравнительно меньшего по своему значению зла покупается слишком дорогой ценой – осуществлением зла более значительного: спасая «формальную» гармонию, люди вызывают к жизни дисгармонию в содержании – раскол как в пределах индивидуальной души, так и в отношении друг к другу.
На почве этих конфликтов вырастает своеобразное явление, характеризуемое обыкновенно французским выражением «enfant terrible»[9]. Есть люди, чувствующие с особой силой, что в каждом сознательном допущении несоответствия между проявлением и внутренней душевной жизнью лежит что-то сомнительное в нравственном отношении, а иногда и просто недостойное. Всякое введение другого в заблуждение относительно своих внутренних переживаний может при известных условиях переживаться как одиозное, несмотря на то, что невозможность проникнуть с адекватностью в содержание чужой души является необходимым условием как общения, так и образования самой индивидуальности. Все наше общение движется в пределах множества отгороженных друг от друга душевных единиц, в пределах проявленности и недопроявленности душевного содержания, сказанности и недоговоренности о нем, и все наше представление о других людях является каждый раз своеобразным сочетанием знания и незнания о них, причем адекватность знания исключена с самого начала. Индивидуальная душа формируется лишь благодаря тому, что она при всех условиях общения и взаимодействия остается одинокой, непроницаемо-замкнутой, и «вывернутость» души наружу вместе с полной доступностью ее превратила бы общество в трудно поддающееся воображению «органическое» социальное единство, наподобие метафизического синтеза Гегеля. И несмотря на это, а может быть, именно поэтому, т. е. в силу смутного предчувствия этой метафизической возможности и влечения к ней, некоторые люди совершенно не переносят лжи в общении и решают конфликт между искренностью и любезностью категорически в пользу первой. При этом обострении чуткости они переживают в качестве лжи не только все проявления, в которых «высказывается не то, что есть в душе», но нередко и те случаи, когда известное мнение или настроение совсем не высказывается по известным соображениям. И там, где люди, отличающиеся малодушием любезности, колеблются, выбирают путь компромисса и иногда не могут сделать известного усилия, чтобы высказать другому что-нибудь неприятное, enfant terrible порывает с этим сомнительным уклоном. У людей этого типа искренность преодолевает любезность, и интересно, что их образ действия вносит в атмосферу общения некоторый вздох облегчения даже и тогда, когда они, увлеченные первоначальным преодолевающим усилием и психической инерцией, утрируют и освобождают себя от любезности даже и в случаях, не требующих лжи и фальши.
Все эти примеры выясняют с очевидностью, что «формальная» гармония, вносимая в общение любезностью, не имеет высшей, самостоятельной ценности. Путь к истинной социальной гармонии, образ которой рисует перед нами моральная и социальная философия, ведет не только через временные «формальные» конфликты, но и через диалектику глубоких временных разрывов и распадений, и высшим искусством вносить в общение гармонию и меру, направляя его к высшим целям социального бытия, является совсем не любезность, а чувство такта.
V
Если мы попробуем теперь взять любезность в ее полном социальном составе, то мы увидим, что она образует в общественной жизни самостоятельный, единый по своему внутреннему смыслу слой переживаний, имеющий свое особое «назначение» и свою судьбу.
Назначение, или, если угодно, целесообразное значение любезности, выяснится с особенной наглядностью, если мы станем на точку зрения экономии сил. Тогда любезность предстанет перед нами как средство, содействующее осуществлению известной цели, но требующее само для своего осуществления затраты сил и энергии; причем затрата этой энергии хотя и не ведет еще непосредственно к главной цели, но дает в общем счете значительную экономию сил, устраняя возможность других, нецелесообразно вторгающихся в жизнь явлений и процессов. Любезность по самому смыслу своему не есть «главное» и существенное в общении; люди общаются не для того, чтобы выбирать в общении взаимно приятную форму, а наоборот: они стремятся к взаимно безболезненной форме проявлений для того, чтобы общение могло иметь место вообще и притом с возможно большей продуктивностью. Любезность есть средство, содействующее продуктивности общения, в чем бы эта продуктивность ни состояла: в заключении торговой сделки, в интересном ученом споре, в органическом совместном творчестве или в той легкости и эстетичности времяпрепровождения, о которой с такой прозрачной глубиной говорит Зиммель[10]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
«Ввиду такой исторической эволюции познания особенно следовало бы, чтобы в такой едва нарождающейся науке, как социология, все силы отдавались определенным исследованиям, которые могли бы вложить в нее содержание и придать ей прочное значение…» Георг Зиммель. Социальная дифференциация. С 2.
2
Точное определение предмета описательной социологии (т. е. социальной психологии) должно быть таково: внутренняя реакция одного существа, обладающего психикой, на представление о другом одаренном психикой существе (независимо от того, соответствует этому представлению в момент реакции наличное, конкретное, живое существо или не соответствует). Согласно такому определению, к ряду социальных переживаний будут отнесены: переживания, связанные с существами, вообще не имеющими внешнего эмпирического бытия (например, психология мифа), или уже не имеющими его (например, психология кладбища), или еще не получившими его (например, изучение переживаний, связанных с идеей потомства). Одним словом, все, что представляется одаренным душой, может вызвать социальное переживание в том, кто имеет такое представление (одухотворение земли, растений, моря).
3
Социология не ограничится, конечно, анализом этой взаимности и подвергнет анализу (в качестве социальных) и такие переживания, которые протекают, например, в индивидууме, реагирующем на проявления другого, не подозревающего о его присутствии или даже о его существовании, а также переживания, вызванные представлением об отсутствующих лицах, и т. д.
4