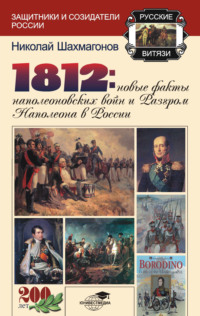Полная версия
Суворовский алый погон
Участок довольно большой. На нём сохранившийся ещё до строительства кустарник, пышный, густой, довольно высокий. Открываешь ворота, и машина оказывается в зелёном гараже, только без крыши.
Выходишь из этого гаража – и справа лужок небольшой, на котором всё ещё растёт полевая клубника. Слева дом, а за грядой кустарника, там же слева, огород небольшой – огурцы, помидоры, зелень. Никогда в жизни и нигде больше Николай не ел столь необыкновенно вкусных салатов из этих вот домашних помидоров с грядки, да тоненькими дужками репчатого лучка, тоже с грядки. И такие сочные салаты получались, что можно было даже необыкновенно вкусную помидорно-луковую водичку потом ложкой доедать.
Нет, такие салаты из магазинных помидоров не получатся, как ни старайся.
Приехали, вещи выгрузили. Из вещей в основном продукты. С продуктами, конечно, непросто. Деревенька на берегу Прони невелика. Магазина нет. Ну, конечно, яички там, молоко из-под коровы парное – это всё пожалуйста. А за продуктами надо ехать в Кирицы или плыть в Спасск-Рязанский. Отец купил катер, небольшой такой катерок с водомётным движителем. Именно движителем, а не двигателем. Так принято называть. Ведь и у бронетранспортёров, плавающих, тоже движитель. Но этого пока Николай не знал.
Разгрузились и конечно же купаться с отцом. Кроме катера лодка привязана к колышку на берегу. Ни катер, ни лодку никто не трогал. Иные были времена. Если надо рыбу половить с лодки, придут, попросят. Ну а катер, это уже другой аппарат – более серьёзный. Даже и не просили.
Николай прыгнул с кормы катера в воду. Не нырнул, а просто прыгнул, чтоб по вязкому берегу не входить. Нырнуть нельзя, мелковато у берега. Поплавал, освежился, потом подтянулся на руках и на корму катера забрался.
Как же здорово летом на реке, именно на деревенской реке. Позади шумная Москва. Пока ещё без пробок, пока ещё с этими пробками не знакомая и не познакомившая с ними москвичей и своих гостей. Но всё же камни, камни вокруг, а здесь такое раздолье.
Обед, ну а после обеда, ни дня не теряя, за учебники. Математику сам делал, а вот русский… Отец открыл том Максима Горького.
– Буду тексты из Горького диктовать, – сказал он Николаю.
Собственно, скорее повторил уже сказанное в Москве.
– Садись-ка, дружок, за стол. Начнём.
И начали.
Первый диктант, если бы это был диктант зачётный, принёс бы несомненную, уверенную двойку. Ну а произведения Максима Горького отец выбрал неслучайно. Очень сложные тексты, предложения длинные, словно специально для экзаменационных диктантов писанные. Если такие диктанты хотя бы на четвёрку писать научишься, на обычно школьном или экзаменационном диктанте будет твёрдая пятёрка. Ну а сочинение тем более напишешь на отлично.
Что ж, первый диктант – реальная двойка, но ведь говорят же: лиха беда – начало.
День диктанты, другой день – изложения. Потом разбор ошибок.
С немецким труднее. Жена отца – он уж в третий раз женат был – прекрасно знала английский, легко разговаривала на нём. Отец её до войны по дипломатической части служил. Объездили много стран. Ну а немецкий не знала. Впрочем, и конкуренции на конкурсе по-иностранному не ожидалось. Учили так себе во всех школах. Непонятно, для чего только время тратили.
Ну а физподготовка как? На лужайке, что справа от зелёного гаража, Николай нашёл рельсу. Не тяжёлую, как от нормальной дороги, а потоньше, может, от узкоколейки, а может, и от какой-то другой дороги, к примеру, для вагонеток. Да и короткую. Для каких она целей была привезена сюда, не интересовался. Попробовал поднять. Тяжело, но осилил. Вот и тренировка. Каждый день рельсу поднимал. Так, постепенно, к отъезду на экзамены до десятка раз довёл подъём рельсы. Ну и делал три подхода в день. Да ещё плавание.
Жена отца, едва они вышли из машины, сказала Николаю:
– Тут к тебе интерес такой! Лариса с подругой купаться стали ходить чуть не через участок наш…
Когда-то действительно можно было едва ли не возле дома пройти, потом сделали невысокий штакетник. Так, для порядка. Его и перешагнуть можно было.
Лариса – ровесница Николая. Каждый год приезжала к бабушке в деревню. Николай ею и прежде интересовался. Она же им не очень. И вдруг такая информация.
«Ну что ж, посмотрим», – подумал он, не скрывая, что обрадован, однако как можно небрежнее сказал:
– Ну и что, подумаешь.
Но весь его вид говорил иное.
И побежали дни, стремительно и неуловимо. Приехали они с отцом в деревню после всех военкоматовских перипетий в двадцатых числах июля. Но июль пролетел молнией, да и первая половина августа недолго длилась.
Вечерами Николай ходил с ребятами в соседнюю деревню, которая была побольше Малых Гулынок. И именовалась – Разбердеево. Там клуб. А что такое клуб деревенский? Вход, коридорчик, из него двери в два-три помещения, ну и зал. Там тебе и кино, там тебе и танцы, там и просто посиделки, если дождь и на улице мокровато.
Почему-то потом Николай, услышав начало песни, которую исполнял Муслим Магомаев: «По просёлочной дороге шёл я молча, и была она пуста и длинна…» – вспоминал именно эту, вовсе не длинную дорогу от Разбердеева до Малых Гулынок. Нет, не свадьбу вспоминал – свадьбы он там не видел. Свадьбы в деревнях по традиции игрались осенью после уборочной. Но вот эта дорога, ровная, укатанная, но пыльная, особенно по обочинам, эта тишина, этот необыкновенный шатёр неба над головой, неба, усыпанного звёздами, ассоциировались именно с песней.
Вечером в канун отъезда он возвращался из Разбердеева в небольшой компании. Была в той компании Лариса. Был и её братишка, чуть моложе, но удостоившийся дружбы с Николаем, конечно, из-за сестры. А дружба младших мальчишек со старшими всегда престижна для младших. Смеялись, шутили… И вот деревня. Лариса жила на околице со стороны Разбердеева. Отцовский дом стоял на околице у самого леса, которым порос косогор, спускающийся к Проне. Неширокая полоса леса, но лес был отменным. Полон грибов, опушки полны ягод. Благодатный Приокский край.
Уезжал Николай на следующий день под вечер. Было ещё одно утро в запасе. Договорились сходить за орехами на околицу деревеньки, в лесную балку. За самым обычным фундуком. Он только-только начал вызревать. То есть поход не совсем за орехами. Поход ради встречи.
Это утром. А вот теперь прощаться пора, а не хочется. Но и от компании не отделаться.
– Выйди, – шепнул он Ларисе, – я подожду вон у тех деревьев.
Она шепнула:
– Выйду…
И появилась, когда все разошлись по домам, вышла, каким-то образом отделавшись и от младшего братишки. Спросила:
– Ты завтра уезжаешь?
– Уезжаю, – ответил он.
– И не жалко? Ещё две недели каникул впереди.
– Я еду в Суворовское училище.
– Мне сказали, – молвила Лариса. – Там, наверное, жизнь, как в интернате, только за забор не пускают.
– Да, в училище казарменное положение, – произнёс Николай загадочное пока для него слово, которое нашёл в правилах приёма в училище. – Но для того, чтобы стать офицером, нужно пройти все испытания.
– И ты будешь офицером?
– Сначала нужно сдать экзамены и поступить в Суворовское, а потом ещё окончить офицерское училище.
– Ещё и офицерское? Так можно ведь и сразу после школы, в офицерское-то училище поступить?
– Можно, – подтвердил Николай.
– Но тогда зачем же Суворовское?
Они остановились на высоком косогоре, с которого просматривался берег Прони. Справа светилось окно отцовского кабинета. Отец обычно сидел за пишущей машинкой чуть ли не рассвета. Ниже темнел лес. А прямо перед глазами открывалась широченная, почти до горизонта, пойма Оки, к которой примыкала здесь, в своём устье, и пойма реки Прони. Ока петляла по казавшейся бесконечной пойме, пронося свои воды из дальнего далека, скрытого тёмной полоской леса. Лес окаймлял бескрайний простор заливных лугов. Над поймой, среди пустынного и безлюдного, на первый взгляд, простора, метался луч света, напоминая слова песни, становившейся Николаю с каждым днём всё более близкой, поскольку была та песня военной: «Прожектор шарит осторожно по пригорку…»
Он начинал ощущать ещё слабую, но принадлежность к тому, что называется армейской службой, пока ещё неведомой, но притягательной.
Прожектор петлял по тёмной пойме, и луч его, то высвечивал скирды сена, то примостившиеся у берегов островки кустарников, то просто разливался по простору лугов. Это шёл теплоход, а может быть, даже и пароход – они ещё изредка ходили в те годы по Оке, шлёпая колесами. Самих же пароходов и теплоходов, конечно же ярко освещённых в ночной час, не было видно из-за крутых и высоких окских берегов. Но иногда порывы ветерка приносили музыку, звучавшую на палубе. Там шла другая жизнь, совсем не деревенская – жизнь, манящая путешествиями в дальние края, хотя особенно дальних маршрутов у этих тружеников реки, обшаривавших прожекторами берега, возможно, и не было.
Николай замер, любуясь завораживающим ночным пейзажем, и задержался с ответом.
– Вот видишь, сам не знаешь зачем, – назидательно сказала Лариса.
– А тебе нужно, чтобы я не уезжал? – неожиданно спросил Николай, с затаённой надеждой ожидая ответа.
– Этого, по-моему, я не сказала.
– Так скажи?!
– И тогда ты не уедешь? – спросила Лариса.
Он задумался, но ответил уверенно, поскольку задумался он не о своём ответе, а о том, для чего был задан вопрос:
– Я поеду в училище. И ты, если, конечно, захочешь, увидишь меня и суворовцем, и курсантом, и лейтенантом.
– Ты уверен?.. – неопределённо сказала Лариса, наблюдая за блуждающим лучом прожектора и прислушиваясь к музыке. – О дальних странствиях поют, – прибавила она. – Говорят, у военных вся жизнь в странствиях.
– Это верно: частые переводы, дальние гарнизоны, а то и служба за рубежом.
– За рубежом, наверное, интереснее, чем в дальних гарнизонах? – заметила Лариса.
– И опаснее, – сказал Николай. – Отец каждый день разные передачи слушает. Говорит, опять что-то назревает, вроде того, что случилось в Венгрии, когда мы были ещё маленькими.
– А что было в Венгрии? – спросила Лариса.
– Контрреволюция голову подняла, – заученно пояснил он. – Нашим военным пришлось помогать венгерским товарищам.
– А теперь?
– Теперь в другой республике подобное назревает, – сказал то, что слышал от отца, но во что особенно не вникал.
Он тревог отцовских особо не разделял, поскольку жила ещё в нём детская уверенность в том, что те люди, которые руководят страной, всё знают и всё решат правильно. У него была своя цель – стать суворовцам. Но эта важнейшая цель не противоречила другой, даже не цели, а задаче, или просто желанию – в эту ночь перед отъездом хотя бы раз, хотя бы очень робко прикоснуться к таким манящим девичьим губам Ларисы. Вот только как сделать это, он не знал.
А Большая Медведица, медленно совершая свой полёт по небосклону, сместилась к западу, и всё таким же туманным и загадочным казался Млечный Путь.
Николай осторожно взял Ларису за руку и тихо проговорил:
– Я давно хотел сказать тебе, что я… – он осёкся и голос его задрожал, а Лариса замерла в ожидании и едва заметном напряжении, – что ты мне нравишься, – вымолвил он, не решившись сказать «люблю».
– Ты уверен?! – произнесла она свою излюбленную, нейтральную фразу.
– Можно я тебе буду писать из училища?
– Можно.
– Ты дашь адрес и телефон?
– Дам.
– Тогда завтра, когда пойдём в балку за орехами, принесёшь?
– Принесу…
– Ты мне так и не объяснил, – после небольшой паузы неожиданно напомнила Лариса, – почему ты решил пойти в Суворовское училище?
– Хочу стать офицером.
– Это я уже слышала, – сказала Лариса. – Но ведь отец у тебя – писатель.
– Сейчас писатель. А во время войны где только не служил. Воевал под Москвой, был ранен, после ранения учёба, после которой даже в Тегеране ему довелось побывать. Участвовал в подготовке встречи руководителей…
– Трёх великих держав, – продолжила Лариса. – слышала о такой встрече.
– А вот отец всегда поправляет. Он говорит, что правильнее произносить – руководителей Державы и двух стран.
– Почему?
– Потому что в мире только одна Держава. Это Россия. А остальные – государства или страны, – стал пояснять Николай и уже хотел перевести разговор на другую тему, поскольку не слишком хорошо помнил, почему именно так говорил отец.
Но Лариса всё же поинтересовалась, отчего же это державой можно называть только Россию?
– Ну потому что потому… Нет, я всё-таки ещё раз уточню у отца и тогда расскажу, если тебе интересно.
– Да вовсе нет. Это я так спросила. А что он у тебя окончил, чтоб писателем стать?
– После войны окончил Литературный институт и Высшую дипломатическую школу. Но по специальности дипломатической почти и не работал, разве что в газетах. Засел за романы о сельской жизни, – пояснил Николай, но это пояснение не слишком вразумило Ларису, которой очень хотелось узнать, с чего бы вдруг этот симпатичный и добрый по натуре мальчишка, совсем не агрессивный, а очень домашний с виду, вдруг решил стать военным.
– Не вижу связи с твоим желанием поступать в Суворовское училище, – сказала она. – Или ты хочешь стать, к примеру, военным дипломатом?
– Нет. Только командиром. Ну а почему решил поступать в Суворовское? Объясню. Как-то на улице перед окнами нашего дома готовились суворовцы к параду. Каждый день часа по полтора, и так дней двадцать подряд. Красиво маршировали! Я поначалу наблюдал за тренировками из окна, потом выходить стал, заговорил с суворовцами, ну и решил.
– Это на какой же улице? Сходить, посмотреть, что ли, – с нарочитой лукавинкой сказала Лариса.
– Далеко идти надо. Улица та находится в Калинине. Я ж ведь у мамы жил до сих пор. А к отцу только на лето приезжал, – уточнил он. – Не знаю, как тебе объяснить. Тянет меня служба военная. Хочу командовать. Хочу, как те герои, о которых раньше писал отец. Это теперь он за сельскую тему взялся. До сих пор очень дружен с некоторыми генералами, даже с маршалом Чуйковым. Вот это люди!
– Ты их видел?
– Многих. Хочу быть таким, как они.
Трудно сказать, удовлетворил ли ответ Ларису, но что ещё мог сказать ей мальчишка, который об армии знал пока только понаслышке? Многих, очень многих тянула в армейский строй сила, поначалу неведомая и лишь позднее осознаваемая.
Игрушки у Николая были сплошь военные, а среди солдатиков, в которых он любил играть, даже фигурки суворовцев. Но то всё игрушки. Может, просто хотелось выделиться из сверстников, среди которых он ничем особенным не выделялся?
Николай сознательно покидал школу и уходил в суровый мальчишеский, во многом уже мужской коллектив, когда в школе как раз самое интересное и начиналось: вечеринки с одноклассницами, походы, танцевальные вечера.
Лариса поёжилась, и Николай поспешно снял с себя курточку, чтобы набросить ей на плечи. Во время этой несложной операции ухитрился поцеловать её в щёчку. Губки она по-прежнему прятала. И тогда он спросил откровенно:
– Можно я тебя поцелую?
– А ты что сейчас сделал?
– Не так… Можно поцеловать тебя по-настоящему? – уточнил Николай.
Она промолчала.
– Ведь завтра уезжаю.
– Вот завтра и поцелуешь, – хохотнула Лариса. – А то ещё понравится – и не уедешь. И не удастся мне увидеть ни суворовца, ни офицера.
Послышались голоса. Это шумная компания, покинув так называемую «улицу», приближалась к опушке леса. Заброшенная лодка, на лавочках которой устроились они с Ларисой, была одним из излюбленных мест молодежи.
Не сговариваясь, встали и пошли к берегу, чтобы не оказаться в общей компании, от которой недавно убежали.
– А я тебе хоть немножечко нравлюсь? – спросил Николай.
– Конечно же нет, – снова хохотнув, сказала Лариса.
– Совсем нет, – огорчённо молвил он.
– Увы! Потому и гуляю с тобой вдвоём, что совсем не нравишься, – прибавила она.
Он остановился, повернул её к себе и попытался обнять. Она снова отстранилась.
У ног плескалась вода, Млечный Путь мерцал в глубинах реки, преломляясь в плавных волнах. Дул лёгкий, тёплый ветерок, и у берега покачивался отцовский катер, небольшой, но с закрытым салоном и водомётным движителем. Николай потянул за трос, притягивая катер к берегу. Ключи от катера всегда были в кармане, и он предложил:
– Пойдём, посидим, а то, гляжу, замёрзла.
Он и не надеялся, что Лариса согласится, но она спросила:
– А как я туда заберусь? Упаду же.
Но он ловко подвёл катер к мосткам, помог ей перебраться на небольшую палубу и пройти на корму. Открыл ключом дверь, и они спустились в салон, в котором, как в купе, а если точнее и понятнее для сельской местности, как в грузовом варианте автомобиля ГАЗ-69, были по сторонам две лавочки. А впереди, так же, как в машине, слева – руль, а справа – сиденье для пассажира. Он усадил Ларису на одну из лавочек и затворил за собой дверцы. Они остались совсем одни, они были совсем рядом, и он слышал её учащённое дыхание. С минуту он сидел молча. Молчала и она, решившаяся на такой вот весьма смелый для девочки шаг к неведомому. Приблизился к ней, притянул к себе, пытаясь найти своими губами её губки. В салоне было очень темно, и найти их можно было лишь на ощупь, определив их близость по теплоте её дыхания.
Прикосновение оказалось неожиданным и оттого ещё более завораживающим. Поцелуй не получился. Николай просто ткнулся губами в плотно сжатые девичьи губы и испуганно отстранился, ожидая её возмущения. Но возмущения не последовало.
– А ты умеешь целоваться? – шёпотом спросила она.
– Умею, – сказал он, вспомнив, как сиживал со своей соседкой по дому в Калинине Танечкой в скверике за Речным вокзалом и как они оба прокладывали себе ещё неизведанный ими путь к самым первым в жизни поцелуям. Теперь он казался себе уже опытным в таких вопросах, а потому прошептал:
– Я тебя научу. Хочешь?
Она не сказала «нет», но, естественно, не могла сказать «да». Он этих тонкостей не знал, а потому некоторое время ждал ответа.
– А где ты научился?
Отвечать на такой вопрос не хотелось, и чтобы не отвечать, он снова притянул к себе Ларису и на этот раз уже быстрее и увереннее нашёл её губки. Они были всё также плотно сжаты, но ему удалось язычком развести их.
– Так целуются? – спросила она, отстранившись.
– Так, – сказал он и снова прильнул к её губам.
Она держалась уже более раскованно. Почувствовав это, он положил её на спину, навалился, не встречая сопротивления этим своим действиям, но лишь попробовал опустить руку к её коленям, как почувствовал протест и оставил эти попытки, довольствуясь достигнутым, которое и так уж превзошло всего его ожидания. Да, это были всего лишь «сладкие томления юного осла», столь точно упомянутые Генрихом Гейне, а вернее конечно же переводчиком известного стихотворения, ибо лишь перевод на русский язык делает европейскую эрзац-поэзию поэзией высокого стиля.
Сколько раз потом, уже в училище, будучи оторванным от общения со сверстницами, он вспоминал ту ночь, и ему казалось, что он недоделал чего-то такого, что мог доделать, если бы проявил настойчивость. Но это, разумеется, только казалось, ибо в ту эпоху, оболганную демократами, девочки не позволяли себе переступать грани в юном возрасте. Ведь и того, что было у него с Ларисой, казалось, вполне достаточным, чтобы отношения встали на какую-то новую грань, ведь они, хоть и через плотные преграды, но ощущали взаимный трепет тел и стук сердец, готовых биться в унисон.
Они ещё стеснялись друг друга. Лариса стеснялась прикосновений его рук к тем частям тела, которые считала запретными. Николай стеснялся того, что она, прижмись он ближе, ощутит результат его волнения.
– Нам пора, – наконец сказала она. – Уже светает. Ещё увидят нас в катере? Подумают…
– Я люблю тебя, – сказал он на это. – А ты?
– Не знаю, – ответила Лариса. – Но мне приятно быть с тобой.
– И целоваться?
– И целоваться, – призналась она.
Он снова прижался к её губам. Но уходить было действительно пора, хотя уходить и не хотелось.
Когда, проводив Ларису, пришёл домой, отец ещё стучал на пишущей машинке в своём кабинете.
– Ну что, нагулялся напоследок?
– Нагулялся. – И после паузы продолжил: – Я вот хочу спросить у тебя, почему ты говоришь, что только Россия является Державой? Ведь по радио, по телевизору только и твердят: западные державы, заокеанская держава?
– С чего вдруг спрашиваешь?
– Да ты обычно говоришь так, а тут я поправил кое-кого в разговоре, а пояснить не мог.
– Ну что касается средств массовой информации, то там просто не понимают или не хотят понимать. Впрочем, в наш век атеизма и не могут понять. Слово держава – держать! Происходит от понятия – «удержание апостольской истины».
– Какой истины? – не понял Николай.
– Апостольской! Это понятие духовное… Так вот Богом именно России, Русской земле, заповедано удержание апостольской истины. Ну мне трудно тебе что-то объяснить. Время такое. Бог, Создатель, Удерживающий – эти слова под запретом. Но с точки зрения духовной – в мире держава только одна – Россия, остальные государства, страны.
– Да, действительно, начнёшь говорить о Боге, не все поймут, – согласился Николай, подумав, что Лариса небось и не вспомнит завтра о разговоре о державе.
И действительно, как можно осуждать тех, кто именовал державами всякие страны типа США, Англии, Франции и так далее. А вот когда в России, спустя годы, был сделан поворот к вере, и всё осталось по-прежнему, вот тогда стала удивительной эта безграмотность, поскольку вернулись в обиход многие слова, как, например, удерживающий. Ведь самодержавный государь в России являлся удерживающим от хаоса и беспредела, а сама Россия является удерживающей от хаоса и беспредела в мире. И потому она Держава! Какими же удерживающими могут быть страны-агрессоры, сеющие смерть и разрушения и стремящиеся опрокинуть мир в бездну?
Лариса на следующий день действительно и не вспомнила о разговоре накануне. До того ли? Они, как и условились, отправились в балку за орехами, правда, с ними увязался её младший брат, который всё время мешал уединиться, пока не встретил там же в балке своих сверстников.
Лишь тогда они присели в тенёчке и снова долго целовались, пока не пришло время расставания, уже окончательного. Пора было идти домой. Отец должен был везти его в Кирицы, на поезд.
В поезде Николай вспоминал минувшую ночь, наблюдая через вагонное окошко наступление очередной ночи, уже совсем иной, тревожной от ожиданий грядущих событий. Он думал о Ларисе, а может, и не о ней самой, а о том, как приятны прикосновения к ней, как сладки томления тела от близости к девочке. Внешне она давно нравилась ему, нравились её личико, её стройные ножки, её загорелые плечики. Она нравилась вся. Но знал ли он её? Знал ли внутренний мир? Знал ли мир духовный? Об этом он не задумывался и, наверное, спроси у него, за что он её полюбил, не смог бы вразумительно ответить. Возможно, просто пришла пора влюбиться, и он влюбился, потому что она была красива, потому что стройна, потому что светловолоса, потому что нравилась не только ему, но и другим мальчишкам. Впрочем, ничего иного, пока и невозможно было требовать от него. Тем не менее сердце наполнялось гордостью – он уезжал в училище, чтобы стать в армейский строй, и ему было кому писать письма из училища, было о ком думать и мечтать в минутки отдыха.
Являлось ли это чувство первой любовью или просто стало первым отдалённым познанием тела девочку, её губ, её трепета и волнения, он не ведал, да и не мучил себя такими вопросами.
А впереди была цель, ради которой он сознательно лишал себя сладких томлений юного осла, обрекая по собственной воле на нелёгкий труд, на испытания, которые под силу далеко не каждому его сверстнику. И эта цель уже начинала выделять его из среды сверстников, готовя к первым урокам ответственности, к первым испытаниям и лишениям, серьёзным с точки зрения его возраста.
Он не сожалел о том, что уезжает, хотя мог бы провести пару недель в деревне, чтобы вот так же, как минувшей ночью, встречаться наедине с девочкой, то ли уже любимой, то ли пока ещё служащей предметом для изучения некоторых анатомических особенностей противоположного пола. Но скажи ему, чтобы вернулся, продолжил эти сладкие изучения и отказался от своей цели, он бы сразу отверг это предложение, потому что осознавал необходимость того, на что себя обрекал ради пока ещё неясного и загадочного, но неодолимо притягивающего настоящего мужского дела.
Глава третья
В училище зачислен!
Два месяца назад, во второй половине июня, после экзаменов за восьмой класс Николай Константинов уезжал из Калинина с мыслями о Суворовском училище. Но почему-то ему казалось, что его училище, то есть то училище, в которое он будет поступать, где-то не здесь, не в городе, где он жил и учился уже полтора года.