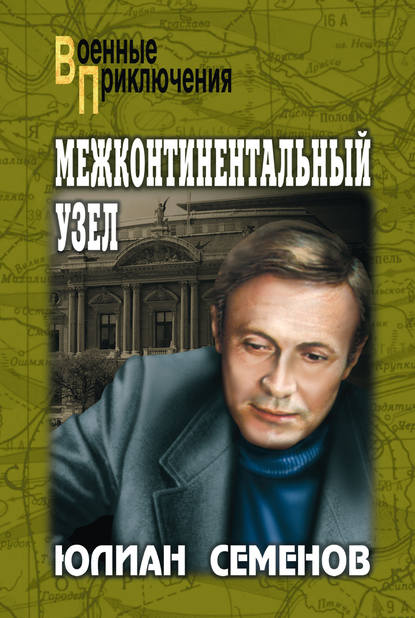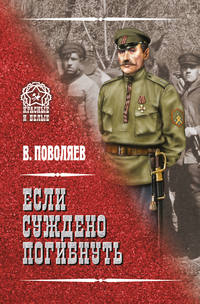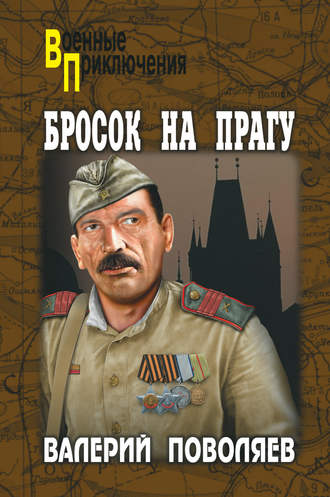
Полная версия
Бросок на Прагу (сборник)
Наши в грязь лицом тоже не ударили – появились при орденах, в начищенных сапогах, во главе с генералом Егоровым.
Следом за генерал-майором четверо горшковских разведчиков несли два ящика «белоголовой» – московский водки, держа тару с драгоценными бутылками с двух сторон, как носилки. Было это неловко, но все равно лучше, чем нести ящик одному человеку.
С американской стороны вперед выдвинулся зубастый лупоглазый полковник в новенькой, еще необмятой форме, надетой, видать, специально по случаю торжественной встречи с русскими, грудь полковника была украшена широким рядом цветастых орденских колодок. Егоров по сравнению с американским полковником выглядел обычным усталым дедом.
А с другой стороны, повоевал бы полковник столько, сколько воевал этот «дед», сколько не спал ночей, сколько маялся, отступая от врага и наступая на него, сколько съел лекарств, страдая от язвы желудка и приступов сердечной слабости, – то вряд ли бы выглядел так браво и зубасто, – согнулся бы, делаясь похожим на обычный лошадиный хомут.
Полковник выкрикнул что-то гортанно и, лихо раскинув руки в стороны, будто крылья, кинулся к Егорову, тот растопырил руки ответно, крякнул сдавленно, кoгда американец стиснул его в объятиях.
– ЮэСэй энд СэСэСэРэ – дрюжба! – оглушил полковник генерала лозунгом, который он специально заучил на русском языке.
Генерал глянул на Горшкова, неотступно следовавшего за ним – так было велено, – и скомандовал тихо:
– Наливай!
Горшков обернулся к Мустафе, и у того, как у фокусника, неожиданно оказались в руках сразу штук восемь граненых стаканов, насаженных один на другой, сержант Коняхин торопливо выдернул из ящика одну бутылку и рукояткой нарядного немецкого кинжала, снятого им с убитого эсэсовца, обколол сургуч со стеклянной головки. Пробку выколотил из бутылки ударом кулака.
Налил два полных стакана водки, генерал в ответ грозно глянул на него: чего ж ты делаешь, сукин сын, зачем своих спаиваешь? Спаивай лучше американцев. Коняхин смущенно покашлял в кулак.
– Извините, товарищ генерал! Учтем на будущее.
Американец влил в себя стакан водки, будто воду, даже не поперхнулся. Генерал одобрительно покосился на него и поднес к губам свой стакан. Медленно, маленькими глотками, не отрываясь, выпил.
Столпившиеся на мосту американцы дружно зааплодировали. К ним присоединились и наши. Хлопали довольные, будто в театре на хорошем спектакле. Полковник вновь потянулся к генералу Егорову, будто малое дитя к своей матке, обнял его, облобызал и прокричал заученно:
– ЮэСэй энд СэСэСэРэ – дрюжба!
– Правильно, – качнул тяжелой головой генерал, обернулся к своей свите: – А ну, ребята, наливай! Угощайте щедрее американцев!
Шум поднялся великий, такого маленький городок Бад-Шандау не слышал, наверное, со времен крестоносцев.
– Мустафа! – позвал Горшков ординарца, видя, что к нему присматривается здоровенный негр с улыбкой во всю свою многозубую белую пасть, – очень симпатичный был негр, в чине, кажется, офицерском. – А, Мустафа!
Наконец Мустафа вывинтился из толчеи людей, встал перед командиром.
– Там что-нибудь от моего пайка осталось? – спросил Горшков.
Мустафа отрицательно качнул головой:
– По-моему, нет. Ребята все срубали.
– Заначка какая-нибудь у нас имеется?
– Найдем, товарищ капитан. – Мустафа скромно кашлянул в кулак.
Свой офицерский паек Горшков никогда не съедал в одиночку – всегда делил его с бойцами: ведь в разведку-то он ходит с ними, им бывает также тяжело, как и ему, значит, и плавленые сырки со сгущенкой и печеньем, которые он получает в продпайке, надо бросать на общую скатерть, он отдавал продукты Мустафе либо Коняхину и говорил просто:
– Это на всех.
Коняхин с добродушной миной, прочно припечатанной к его лицу, сгребал продуктовые дары в кучу и обычно произносил:
– Благодарствую от имени всех ребят, товарищ капитан.
– Благодарствуй, благодарствуй, – машинально откликался на это капитан и, погруженный в свои мысли и заботы (в последнее время от разведки начали требовать слишком много бумаг, раньше такого не было), махал рукой: иди, мол…
О том, как расходуется его паек, кто лакомится печеньем фабрики «Рот Фронт», а кто нет, он узнавал от Мустафы – ординарец внимательно следил за тем, чтобы никто не был обижен, и бывал, ежели что, строг. Хотя капитану никогда не жаловался, если было надо кого-то наказать, обходился своими силами.
Мустафа словно бы законсервировался, он не изменился совершенно, все такой же, как и три года назад, когда Горшков забрал его из свежего пополнения и усадил на грузовик, – был по-прежнему широкоплеч и низок ростом, не вырос ни на сантиметр, светлые рысьи глаза его по-прежнему были пронзительны, все видели, он, как и прежде, был ловок и подвижен, рассказывать любил не о фронтовых своих проделках, а о погранцовской службе на Дальнем Востоке, о том, как гонялся по уссурийским дебрям за нарушителями, достать мог, как и раньше, что угодно…
И где он достает, скажем, мясо, когда у начпрода полка нет ни одного мясного кусочка, а мед в местности, где нет не то, чтобы пчел а даже мух, не знает никто. Но Мустафа делал это.
Он мог добывать огонь из ладоней, потерев их одна о другую, поймать рыбу на голый палец, из двух веток и пучка травы, сорванной под ногами, сварить вкусный суп… Мустафа – это был Мустафа.
– Вперед, Мустафа, – сказал ему капитан, – волоки сюда закуску. Русскую… Чтоб американцам тошно сделалось.
Мустафа притиснул руку к пилотке и исчез.
Разведчики ходили сейчас в пилотках – очень удобный головной убор пилотка, американцы вон тоже ходят в пилотках, даже их главный – полковник. И генералы у них, говорят, тоже не брезгуют пилотками.
– Еще водки, – послышался голос генерала Егорова. В следующее мгновение генерал лихо, как актер на сцене, щелкнул пальцами. Призывный жест.
Коняхин начал быстро и ловко обкалывать сургуч на горлышках водочных бутылок, наполнил первый подставленный ему стакан, потом второй, следом третий: граненые стаканы понравились американцам, в их стране такой посуды не было.
Бутылка опустела стремительно, Коняхин пустил в ход следующую, потом взял еще одну, стукнул рукояткой кинжала по запечатанной пробке. Мелкие сургучные сколы полетели в разные стороны.
Два ящика водки были опорожнены в десять минут, скорость поглощения была необыкновенно высокой, Егоров был вынужден крикнуть, не прекращая общения с американцами:
– Бойцы, где подмога?
Подмога не замедлила появиться – разведчики Горшкова притащили еще два ящика водки, Коняхин снова принялся стучать кинжалом по горлышкам, следом за водочной подмогой прибыл Мустафа с внушительным свертком, сказал капитану:
– Вот!
Круглое лицо его светилось довольно.
– Что это? – тихо спросил Горшков.
– Первоклассное украинское сало. С худобинкой. И с чесночком, товарищ капитан.
– Ты же мусульманин, Мустафа.
– Ну и что? Сало мне, конечно, не положено есть, но это вовсе не означает, что я буду брезговать им всю оставшуюся жизнь. – Жесткие обветреннее губы Мустафы раздвинулись в улыбке.
– В таком разе, Мустафа, пластай сало – удивим союзников.
– Думаю, что не удивим, товарищ капитан.
– Почему так считаешь?
– Они там, в Америке своей, едывали все – и чертей жареных, и суп из одуванчиков, и тюрю с коньяком. Нет, товарищ капитан, таких людей удивить трудно.
Американцы тем временем потчевали русских своим напитком – золотистым виски, ловко стряхивая с бутылок железные пробки, наливали в стаканы, следом кидали пару квадратных кусочков льда – чтобы пилось приятнее.
Русские удивлялись:
– Надо же!
Угощали американцы и своей закуской – бутербродами с беконом, принесли несколько подносов.
Ефрейтор Дик взял один бутерброд, подцепил пальцами ломтик бекона и, посмотрев на свет, произнес удивленно:
– Надо же, облака видны!
Коняхин, потянувшись за очередной бутылкой, хлопнул Дика ладонью по животу:
– Ешь, пока живот свеж.
– М-да, – согласился с ним Дик, – раз дают, то бери, если бьют – беги.
– Наше сало с худобинкой лучше американского. – Мустафа успел напластать ножом уже целую гору закуски, разложил ее на пустом снарядном ящике, принесенном с берега, крупно нарезал хлеб, доставленный из штаба полка и широко раскинул руки: – Союзнички, налетай!
Облака, висевшие с утра над Эльбой, поредели, попрозрачнели и разошлись в разные стороны, сквозь туманную кисею проклюнулось солнце, ненадолго проклюнулось – через несколько минут накрылось дымным сизым взболтком, на мост наползла недобрая тень, вместе с нею – что-то холодное, способное принести боль, но люди, толпящиеся на мосту, внимания на это не обратили совсем, они радовались: война кончается… Кончилась война.
Акт о капитуляции еще не подписан, но это уже не играет никакой роли, – не суть важно это, – дело сделано, победа находится в кармане.
К Мустафе пристал нарядный американец, у которого на голове вместо пилотки косо сидела цветастая полосатая шапочка с помпоном на макушке, шапочка была сшита из трикотажа и растягивалась, словно резиновая. «Клоун», – невольно подумал Мустафа, на всякий случай улыбнулся пошире – нельзя, чтобы его обвинили в нерадушии к союзникам. Клоун протянул ему руку и назвался:
– Джон!
Мустафа понял, что тот назвал свое имя, протянул руку ответно:
– Мустафа!
Американец снял с пояса широкий нож, украшенный птичьей головой, протянул его Мустафе.
– Ченч! – ткнул пальцем в старую финку с наборной ручкой, которую Мустафа наполовину засунул за голенище сапога. – О'кей? Ченч!
– Ченч? Да, это мой старый нож, называется ченч. – Мустафа нагнулся и звонко хлопнул себя по голенищу, потом, поняв, что говорит не то, крикнул Петронису, находившемуся рядом с генералом: – Товарищ младший лейтенант, что по-американски означает «ченч»? Ножик, да?
– Не знаю, как по-американски, но по-английски «ченч» – обмен.
– А-а-а, – наконец сообразил Мустафа, – американец предлагает мне махнуться: за мою старую финку дает мне свой заводской кинжал.
– Меняйся не глядя, – Петронис засмеялся, – ты в выигрыше.
– Да не интересует меня никакой выигрыш, – отмахнулся Мустафа, – мне надо, чтоб все честно было. Моя финка двадцать копеек стоит, а его кинжал – сто рублей. Разница большая.
– Не в деньгах дело, Мустафа. Меняйся! Не обижай союзников.
– Й-йэх! – Мустафа лихо рубанул рукою воздух. – Была не была! Только не считай, американец, что я тебя обманул.
Неподалеку заиграл аккордеон, серебристая мелодия, поплывшая по пространству, была хороша, навевала грусть, мысли о доме, – очень захотелось тем, кто находился на мосту, поехать домой, к родным, в милые сердцу места, – судя по тому, что война подошла к концу, не за горами находится счастливый день, когда прозвучит приказ отправляться в родные пенаты.
До-ом, что для всех нас он значит? Да, собственно, все. Краем глаза Горшков заметил, как рослую красивую машинистку из штаба полка, за которой пытались ухлестывать многие офицеры, но вся было бесполезно, подхватил статный белозубый негр и закружил в танце.
Сизая наволочь сползла с солнца, раздвинула своей тяжестью облака, обнажился кусок чистого яркого неба, стало видно, что в образовавшейся прорехе кружится крупная птица, высматривает что-то, дивится веселью, развернувшемуся на мосту. Там, где гремит стрельба, никогда не бывает птиц, но стоит только стрельбе затихнуть, как птицы тут как тут – они не намерены изменять человеку.
Но они же и боятся человека.
Окруженные хороводом людей, оглушенные шумом, криками, праздничной необычностью обстановки, аккордеоном, генерал Егоров и Горшков оказались на одном пятачке прижатыми друг к другу, оба с пустыми стаканами – опустошили их в очередной раз, и все, больше никто не налил. Горшков даже подивился: неужели такое бывает с генералами.
– Ну как, сынок, обстановка в комендатуре? – неожиданно поинтересовался Егоров. Вид у него был усталый, невыспавшийся, тяжелые веки набухли нездоровой краснотой. Горшков невольно покачал головой: неужели генерал знает и про комендатуру?
– Не мое это дело, – произнес он огорченно, – за языком сходить – мое дело, с корректировщиком огня засесть на какой-нибудь высоте – мое дело, в бой ввязаться, чтобы выручить своих, – мое дело, а вот комендантская лямка – не мое, товарищ генерал. Освободили бы вы меня от нее, а?
– Потерпи, потерпи, сынок, – мягко пророкотал генерал, – погоди еще немного, скоро мы тебя заменим. Надо найти для Бад-Шандау настоящего коменданта, а на это нужно время, сынок… Потерпи пока, ладно?
– Есть потерпеть, товарищ генерал! – Горшков притиснул ладонь к пилотке. Вытянул шею: что-то не видно ординарца. Выкрикнул зычно: – Мустафа!
Мустафа будто по мановению волшебной палочки возник перед ним. Капитан показал ему пустой стакан.
– Не стыдно тебе, Мустафа? Добудь-ка нам виски.
Поспешно кивнув, Мустафа исчез – все-таки он умел исчезать, как дух бестелесный, за превращениями его в невидимку и обратно проследить было невозможно.
Через несколько мгновений Мустафа возник снова. В руке он держал квадратную темную бутылку с яркой этикеткой. Это было виски – любимый напиток американских пехотинцев, как показалось Горшкову. Впрочем, водку они тоже пили охотно, не отказывались…
– Товарищ генерал, дозвольте. – Мустафа сунулся с бутылкой к Егорову, налил полстакана золотистой, пахнущей свежим хлебом жидкости, поймал начальственный кивок и вежливо проговорил: – Пожалуйста, товарищ генерал-майор! – Передвинулся к Горшкову: – Ваш стакан, товарищ капитан!
Горшков подставил под заморскую бутылку свою посудину, ординарец налил немного – капитан отмерил ногтем, сколько у него должно быть виски, Мустафа неверяще приподнял одну бровь: мало, мол, товарищ командир, не похоже это на вас, но Горшков был тверд: ему сегодня еще канителиться в комендатуре, принимать посетителей – не хотелось выставляться перед немцами этаким красноносым алкоголиком, – чокнулся с Егоровым: тот сам потянулся к нему со стаканом.
– За нашу победу, товарищ генерал!
В ответ Егоров улыбнулся печально: что-то происходило у него в душе, а что именно – не понять, внутрь-то ведь не заглянешь.
Веселье на мосту через бурную темную реку продолжалось. В холодной воде Эльбы возникали воронки, втягивали в себя разный мусор, пропадали, держась стремнины – течение съедало их, под мостом проносились разные плавучие предметы – промахнул выдернутый из земли телефонный столб, следом неожиданно неторопливо – его сдерживали порывы ветра, – проследовал дырявый пустой шкаф, вот проплыл труп – затылком вверх, лицом вниз, с опущенными руками, словно мертвый человек этот хотел зацепиться за что-то на дне и остановиться, труп был немецкий, затылок украшала рваная рана.
– А что, сынок, трудностей в комендатуре все-таки много? – неожиданно поинтересовался Егоров.
– Есть трудности, товарищ генерал, – не стал скрывать Горшков, – даже не ожидал, что такие могут быть. – Ну, например, жители Бад-Шандау оказались ленивым народом…
– Немцы – и ленивые? Быть того не может!
– Еще как может. Сколько ни просил приступить к разборке завалов, к расчистке улиц – никто даже пальцем не пошевелил. Ноль внимания.
– Но так расчищают же улицы, капитан!
– Расчищают. Только после письменного приказа, – под нажимом. Вывесил приказ – пошли, а так в кармане держали фигу. Не реагировали просто никак.
– Почаще вывешивай приказы, сынок.
– Я так и поступаю. Бургомистр решил организовать танцы под духовой оркестр. Немцы отвыкли от музыки и танцев – Гитлер после Сталинграда запретил им и то и другое. Вывесил объявление: дорогие граждане Бад-Шандау, приходите в городской парк на танцы. Ни один человек не пришел. Тогда мне пришлось издать приказ.
– И что?
– Побежали на танцульки, как миленькие. Даже семидесятилетние старушки. Поляну, отведенную под танцплощадку, забили так плотно, что люди там не поместились.
– Это хорошо. – Егоров засмеялся.
– Но есть проблема, которую я не смогу решить без вашей помощи, товарищ генерал.
– Что за проблема?
– Фрицы, отступая, бросили свой госпиталь…
– Это я знаю. Пять тысяч раненых.
– Куда их девать?
– Тех, кто может передвигаться, я бы отправил домой.
– А тех, кто не может? – Горшков поморщился, словно сам был раненым, помял в руках стакан, будто хотел его раздавить.
– Этих придется долечивать.
– Где же я возьму столько лекарств, товарищ генерал-майор? – Капитан даже голову втянул в плечи. – Это же понадобится столько аспирина, анальгина, стрептоцида, прочих снадобий и бинтов – никакая дивизионная медслужба не потянет.
– Киньте клич по городу…
– Вряд ли в Бад-Шандау найдется столько лекарств.
– Дерзай, сынок, – обязательно все получится, – Егоров поправил на плече начальника разведки погон, жест был отцовским. – А я со своей стороны разведаю, чем нам сумеет помочь медицинское управление армии. Как-нибудь выкрутимся.
– Конечно, жаль, товарищ генерал, тратить свои лекарства на врага, но…
– Вот именно – «но», – качнул Егоров тяжелой головой, – мы же победители, нам и тащить этот хомут.
– Верные слова, товарищ генерал. – Горшков не выдержал, вздохнул. – Сегодня же поеду в госпиталь, посмотрю еще раз, что там есть у фрицев, а чего нет.
– Поезжай, сынок.
В комендатуре Горшкова ожидала молодая грудастая немка. Глаза задорные, щеки румяные – кровь с молоком, рот припух, будто от затяжных поцелуев. Во взгляде – затаенный зов, что-то сладкое, способное вскружить голову всякому мужчине, даже сделанному из железа. Мустафа, увидев незваную посетительницу, зацокал языком, словно восторженная птица, которую угостили горстью пшена.
– Что случилось? – по-русски спросил капитан у аппетитной немки.
Та залопотала бодро, быстро – не разобрать, что говорит, – завзмахивала руками, из глаз начал брызгать голубой огонь. Горшков поднял руку, останавливая немку, попросил Петрониса:
– Пранас, переведи! Ничего не могу понять… Что она высыпала на меня?
Петронис усадил немку на стул, произнес что-то резко, и та мигом умолкла, задышала возбужденно, грудь у нее сделалась похожей на тумбочку – можно вазу ставить, – заговорила спокойно, с деловыми нотками в голосе.
Петронис, слушая ее, кивал неторопливо, потом поднял руку:
– Стоп!
Немка умолкла, захлопала своими искристыми глазищами – хороша была дамочка. Капитан вопросительно глянул на переводчика:
– Ну?
Петронис, словно бы сомневаясь в чем-то, приподнял одно плечо – может, он услышал что-то не то? – затем вздохнул и пробормотал:
– Даже не знаю, как сказать, товарищ капитан…
– Как есть, так и говори.
– Согласно вашему приказу она несколько раз выходила на расчистку улиц. В результате от этой работы у нее пропало молоко.
– У нее что, на руках грудной ребенок?
– Да.
– Тьфу! Могла бы вообще не выходить на расчистку.
– Могла бы, товарищ капитан, да побоялась ослушаться приказа.
– Ох уж эти немцы! – Горшков поднялся с расшатанного скрипучего стула – сделал это аккуратно, опасаясь завалиться, приоткрыл дверь в коридор: – Мустафа, где ты?
Мустафа не замедлил нарисоваться, лихо хряснул кирзачами друг о дружку. Хорошо, что каблуки не отвалились.
– Тут я, – глядя на немку, сладкоголосо пропел ординарец.
– Мустафа, у нас в кассе что-нибудь имеется?
Ординарец сложил домиком бесцветные короткие бровки.
– Кой-что имеется, товарищ капитан, – добавил на всякий случай: – Самая малость.
– Придется эту самую малость раскассировать, Мустафа.
Ординарец вновь бросил заинтересованный взгляд на немку, вторично стукнул сбитыми каблуками сапог.
– Всегда готов, товарищ капитан!
– Выдели немного денег на ребенка гражданке – это раз и два – сгоняй с ней к бургомистру, передай мою просьбу: пусть каждый день выделяет этой даме по литру молока. – Горшков сделал пальцем указующий жест. – Пранас, переведи, чтобы мадам все было понятно.
Петронис перевел. Немка расцвела, сделалась пунцовой, из глаз брызнули радостные искры, она присела в книксене.
– Данке шен, герр комендант!
Петронис открыл было рот, но Горшков осадил его рукой:
– Не надо, Пранас, это понятно без всякого перевода.
Переводчик хрипловато, как-то кашляюще рассмеялся, немка не отстала от него – смех ее был легким, звучным, как у феи, капитан не выдержал, поднес ко рту кулак и тоже рассмеялся, хотя, как он полагал, комендантам, находящимся при исполнении служебных обязанностей, смеяться не положено.
Хоть и заартачился бургомистр, не желая ежедневно выделять по литру молока из скудных фермерских поставок, а капитан все-таки дожал его, заставил это делать.
– М-м-м, – стонал бургомистр. – У нее брат погиб на Восточном фронте, офицером был, между прочим, обер-лейтенантом, отец находится у вас в плену, в Сибири, муж, сгородивший ребенка, пребывает невесть где, может быть, сейчас сидит в Берлине, защищает бункер Гитлера, а я ее должен кормить молоком… Неразумно это, господин комендант.
– Эсэсовцы в ее семье были?
– Эсэсовцы? – Бургомистр замялся. – Нет, эсэсовцев не было.
– А раз не было, то, значит, нет политических причин, чтобы отказать ей в молоке.
Бургомистр повозил губами из стороны в сторону и безнадежно махнул рукой:
– Неправильно все это… Но вас не переспоришь, господин комендант.
Через два дня немка вновь появилась в комендатуре, принесла с собой расписной эмалированный тазик, наполненный чем-то доверху и накрытый большой льняной салфеткой, обметанной по краям шелковыми розовыми кружевами – типично дамское рукоделие, – протянула тазик Горшкову:
– Это вам!
В ответ капитан вежливо наклонил голову, принял тазик и сдернул с него салфетку, легкомысленно украшенную кружевами. Тазик оказался доверху наполнен пирожками.
– Испекла из муки, которую берегла с сорок третьего года, – сообщила немка.
Горшков восторженно покрутил носом:
– М-м-м! Не ожидал, что в Германии могут печь пирожки.
– Не умеют, герр комендант, не умеют. Это я вычитала в поваренной книге, в разделе русской кухни. Там подробно описано, как печь пирожки.
– Благодарю вас, фрау…
– Фрау Хельга.
– Благодарю вас, фрау Хельга. – Горшков взял один пирожок, откусил немного. – М-м-м, с повидлом. Очень вкусно!
– Извините, герр комендант, другой начинки не было.
– И не нужно, фрау Хельга. Я больше всего люблю пирожки с повидлом. Это с детства…
– Я прочитала в книге: в России много рецептов – пирожки с мясом, с печенкой, с ягодами, с картофелем, с луком, с капустой…
– Но лучше всех сладкие пирожки с повидлом. – Горшков даже зажмурился: так остро пахнуло на него детством, что захотелось нырнуть в свое прошлое, в счастливую школьную пору и раствориться там.
Вечером Горшкова вызвали к начальнику штаба.
Полный молодой подполковник, фамилию которого никак не могла удержать цепкая память Горшкова, – мудреная была фамилия, – сидел в своем кабинете в новеньком скрипучем кресле (успел расшатать своим крепким телом) и пил соду. И вчера, и позавчера, и сегодня он крепко переел и перебрал горячительного на встречах с американцами и теперь здорово страдал.
Увидев Горшкова, подполковник поморщился нехорошо и поднял трубку полевого телефона.
– Дайте мне первого, – попросил он дежурную связистку, чей острый тоненький голосок был слышен даже Горшкову, стоявшему в отдалении, у порога, а когда первый отозвался, подполковник попросил: – Товарищ генерал, дозвольте зайти.
Получив добро, подполковник молча, по-птичьи покивал и нахлобучил на голову фуражку. Фуражка была ему мала, сидела на голове косо, как поварской чепец, при ходьбе сваливалась то на одно ухо, то на другое. Подполковник встал со стула и выразительно щелкнул пальцами, подавая команду: пошли!
Командир дивизии Егоров, сгорбившись, навис над столом и задумчиво подперев голову обеими руками, рассматривал карту. Перед ним стоял чай в изящной трофейной посудине, втиснутой в подстаканник, генерал про чай забыл, и он остыл. На стук двери поднял голову, в следующее мгновение улыбнулся скупо.
– Твоя взяла, капитан, – неожиданно произнес он. – Придется тебе сдать свои комендантские полномочия. И – как можно скорее. Сделать это надо сегодняшней ночью.
– Готов сделать это в любую минуту.
– Ну, минуты тебе не хватит. Насколько я понимаю, ты уже успел обзавестись кое-каким хозяйством.
– Успел, товарищ генерал. Час назад мне передали, что американцы пропустили к нам целый батальон проституток.
– Да, мне об этом тоже доложили. – Егоров с досадою поморщился. – И откуда только они взяли их?
– Обслуживали власовскую армию. Дамочки наши же, русские.
– И это я знаю. – Егоров поморщился снова, помял пальцами виски – история с проститутками ему не нравилась.