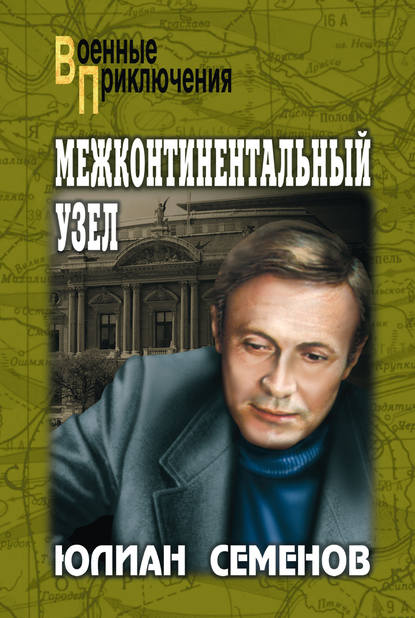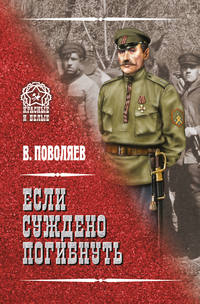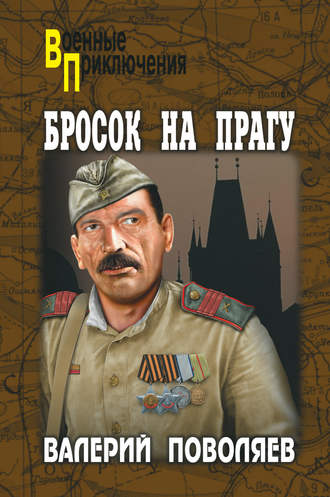
Полная версия
Бросок на Прагу (сборник)
Американец, вылезший из башни «шермана», беспокоил капитана, очень уж беспечно ведет себя парень – вдруг какой-нибудь гад подсечет его с чердака пулей?
– Уйди, дурак! – выкрикнул капитан, резко располосовал рукою воздух, но танкист не услышал и не увидел его. – Тьфу!
Жаль. А ведь им предстоит еще встретиться, обняться, выпить по стакану русской водки – желательно холодной, хотя и теплая тоже пойдет, – и заесть из одной банки американской тушенкой.
– Уйди!
Нет, не уходит. Снайперы, снайперы… Слишком уж много этих хорошо стреляющих сволочей развелось в последнее время у гитлеровцев. Говорят, что сам фюрер – лично, вот ведь как, не побрезговал, – занимался этим.
Кто-то из приближенных генералов, – кажется, это был Кейтель, – сказал ему, что один снайпер может легко остановить взвод автоматчиков, а четверо снайперов – роту. Фюрера очень взбодрила идея войны малыми силами, он даже перестал походить на слабого ощипанного куренка, на которого очень уж здорово смахивал последние полгода, у Адольфа даже голос сделался куриным, – он загорелся, горделиво вскинул голову и взял под свое крыло скоропортящийся продукт: курсы по досрочному выпуску снайперов.
Очень уж беспечно, бестолково ведет себя танкист – это же война, тут иногда стреляют… Тьфу! А человек в рыжем шлеме и прочном сером комбинезоне начал исполнять на том берегу радостный шаманский танец, совершал прыжки, размахивал руками, что-то кричал, пел. Что именно кричал и пел – не было слышно, все звуки давил дождь.
– Вот обезьяна обрадованная, – Горшков выругался, – совсем себя не бережет.
Он как в воду глядел – с крыши одного из домов, вставших в рядок на противоположном берегу, щелкнул задавленный расстоянием и поредевшим дождем выстрел, американец перестал размахивать руками, недоуменно оглянулся и, сложившись мягким кулем, распластался на земле около гусениц «шермана» У Горшкова потемнело лицо.
– Мустафа! – позвал он.
Мустафа никуда не уходил, сидел за спиной капитана на какой-то деревяшке и «грел» завтрак.
– Я здесь.
– Видел, Мустафа?
– Видел. Я даже засек, с какого чердака стреляли.
– Возьми с собой двоих, Мустафа, и разберись. Пока саперы мост не закрыли.
Ординарец кивнул понимающе и в то же мгновение исчез. Будто и не было его – растворился в пространстве. Через несколько минут он с двумя разведчиками прогрохотал сапогами по мосту. Горшков продолжал наблюдать за противоположным берегом Эльбы.
Вернулся Мустафа через полтора часа. Лицо в поту, губы – запаленные, белые.
– Их там целый выводок оказался, – доложил он, – змеюшник.
– Ну и как?
– Змеюшник ликвидирован.
Капитан довольно кивнул: молодец, Мустафа, можешь взять с полки пирожок, а еще лучше – получишь стопку вне очереди.
Саперы к этой поре уже закончили минирование. Маленький лейтенант в намокшей, колом сидевшей на нем плащ-палатке подбежал к Горшкову, притиснул руку к своей меченой каске.
– Что-то вы, лейтенант, очень быстро справились – мост-то огромный, – недоверчиво пробормотал капитан. – Подозрительно это.
– Под пулями мы работаем еще быстрее. – Сапер неожиданно улыбнулся. Улыбка у него была чистая, как у девчонки.
– Ладно, – прощающе махнул рукой Горшков, – вопрос с повестки дня снимается.
«Шерман», неподвижно стоявший на том берегу, неожиданно дрогнул и тихо пополз назад. Американец, которого задел снайпер – не убил, а только задел и человек свалился без сознания у гусеницы танка (провалялся долго без помощи, очень долго – за это время мог пять раз истечь кровью), – приподнялся и на четвереньках также двинулся назад, танк прикрывал его.
Хорошо, что американцы увидели, как лейтенант со своим взводом минировал мост, – будут осторожны и лишний раз не сунутся… Это очень хорошо. Горшков отер ладонью мокрое лицо – будто умылся, повернулся к Мустафе:
– Давай твой завтрак.
Дождь сделался еще тише, помельчал совсем, капли его превратились в туманную пыль, земля набухла водой, сквозь черноту сгоревших мест, сквозь битый асфальт и кирпич, – куски валялись всюду, – робко пробивалась бледная хилая травка… Жизнь брала свое.
– Неужели мы взорвем этот мост, товарищ капитан? – Неверящие глаза Мустафы превратились в узкие щелки. – А?
– Не знаю, – неохотно ответил Горшков, – это не нам с тобою решать. Решают… – он поднял голову, глянул вверх, в подернутое темной сырой наволочью небо, – там решают…
– На завтрак у нас картошечка с мясной тушенкой, – объявил Мустафа капитану, – есть еще кое-что. – Он выдернул из-под плащ-палатки фляжку, поболтал ею, с довольным видом послушал бульканье. – Еще имеется кофий. Горячий. В термосе. Говорят, французский. – В голос Мустафы невольно натекло уважение: дальний предок его много лет назад с русскими войсками побывал в Париже, поэтому Мустафа ко всему французскому относился с особой симпатией. – Это еще не все, товарищ капитан, – многозначительно проговорил ординарец, – имеется также две баночки рыбных консервов и круг копченой колбасы.
Ординарец по локоть запустил руку в мешок, извлек оттуда нарядно поблескивавшую золотой краской плоскую банку, похожую на шкатулку для дамских украшений. Это были знаменитые марокканские сардины – рыбки, которые сами таяли во рту, не надо было даже разжевывать. Горшкову уже довелось отведать их. В немецкой армии сардинами кормили только генералов, и такие баночки находили только в запасах генеральских кухонь, когда захватывали какой-нибудь крупный штаб.
– Вот, – хвастливо произнес ординарец, повертел банку в руке. Спросил, приподняв одну жидкую бровь: – Открыть?
– Не надо.
– А ведь в самый раз под стопку, товарищ капитан.
– Потом, потом, Мустафа. Это ведь товар такой – не прокиснет. Вдруг американцы заявятся – чем их будем угощать?
– Но пока мы их угощаем стволами «семидесятишестимиллиметровок»…
– Это не наше дело, Мустафа. В стволах нет снарядов. Наверху, думаю, договорятся, и нам так или иначе придется встречать союзников стопками холодной водки.
Картошка с тушенкой оказалась хороша, повар не пожалел, положил в котел и масла, и лаврового листа, и лука, блюдо получилось и душистым и вкусным – век бы ел…
Капитан откинул капюшон плащ-палатки, противная водяная пыль перестала сочиться из небесных прорех, вверху что-то сдвинулось, сырые, заряженные мокретью облака сместились в сторону – похоже, решили сбиться в одну кучу и так, кучей, проследовать дальше, в недалеких деревьях раздалось пение одинокой птицы.
У Мустафы даже лицо вытянулось от удивления: в войну они почти не слышали птиц: грохот, выстрелы, рвущиеся снаряды, дым пожаров, бои отгоняли их далеко, дальше, чем за пресловутый Можай, – сжигали сотнями, тысячами, сжигали жестоко – уничтожали более бездумно, чем людей, казалось, что все, птичье поголовье истреблено под корень, ан нет – отдельные экземпляры выжили…
Приподнявшись на коленях, Мустафа проговорил смятым, едва различимым шепотом:
– Вы слышите, товарищ капитан?
Горшков молча кивнул – он тоже услышал пение птицы, лицо у него сделалось встревоженным и немного растерянным…
Неужели война скоро кончится? Скажите, однополчане, это правда? Горшков неверяще покрутил головой: не может этого быть! Мустафа укоризненно глянул на командира: может, еще как может.
Палатки постарались поставить под деревьями – почему-то места у опаленных ясеневых и кленовых стволов казались более надежными, чем, скажем, около стенки какого-нибудь дома. Обманчивое, конечно, суждение, на войне неуязвимых мест нет, если только на небесах (в конце концов, все там будем), поэтому Горшков расположил своих разведчиков поближе к мосту, под обгорелыми стволами… Спрашивается, зачем? А так, на всякий случай. Переправа будет сохраннее. Да и чутье так подсказывало.
Вечером реку укрыл плотным пологом туман, противоположный берег совсем растаял в нем. Если дело пойдет так и дальше, скоро пальцы на собственной руке невозможно будет разглядеть.
На ночь Горшков выставил часовых: одному определил место у моста, около чугунной трансформаторной будки, облюбованной капитаном еще утром, другому – асфальтовую площадку, окружавшую огромный, сгоревший до середины клен. Предупредил часовых:
– Глядите в оба, мужики! Война еще не кончилась. Смена – через два часа.
Несколько минут постоял у реки. От воды тянуло неприятным холодом, пахло рыбой, травяной прелью, снегом – вполне возможно, что в верховьях Эльбы еще где-то лежал снег, нещадно терзаемый дождями и солнцем, он и добавлял реке свой особый запах, течение было сильным… Горшков вгляделся в темноту, в крутящуюся воду и поспешно отступил назад на несколько шагов. Покачиваясь в волнах, к берегу подплыл ногами вперед труп, на подошвах сапог у него, на носках и каблуках, поблескивали новенькие стальные подковки, хорошо видные в темном тумане.
Судя по подковкам, это был немец, наши солдатики, ходившие в кирзачах, до такого еще не доросли, да и стальные подковки в армию еще не поступали – дорого это было…
Труп ткнулся подошвами в подмытую песчаную кромку и замер на несколько мгновений, потом чуть стронулся и опять замер, словно бы встал на якорь, но никакого якоря не было, и разбухшее тело, подбитое течением, сдвинулось на несколько метров вниз и через минуту исчезло. Труп растворился в туманной ночи.
Подковки на сапогах не обманули – это действительно был немец. В черной форме – то ли железнодорожник, то ли танкист, то ли эсэсовец в парадной одежде.
По-прежнему было тихо – ни единого выстрела: ни на нашей стороне, ни на стороне той. Где-то далеко, за линией горизонта, в тумане метались рыжеватые полосы. В той стороне находился Берлин. Там еще шли бои.
Надо было отдыхать. Горшков развел караульных и снова улегся спать. Организм у него работал как хорошо отлаженный хронометр – капитан мог просыпаться без всякого будильника в назначенное время. И видать, эта привычка вживилась в него уже навсегда, на всю оставшуюся жизнь.
Война вообще вырабатывает в человеке много привычек, причем в основном плохих.
У Горшкова был один толковый разведчик, по фамилии Георгиев, так он настолько привык к наркомовской «сотке» – фронтовым ста граммам водки, что когда его списали в гражданку после потери руки и отправили домой, дома он спился.
Сын его, мальчишка, работавший на кожевенном производстве, начал каждый лень приносить папе по пузырьку спирта, эти пузырьки и погубили толкового разведчика, награжденного двумя медалями «За отвагу».
А когда затяжная война эта закончится совсем и солдаты вернутся домой, наружу вообще полезут всякие хвори, о которых на фронте они даже слыхом не слыхивали, обнаружатся дырки, что вроде бы зажили давным-давно, но в мирную пору открылись вновь, обнаружится что-то еще – нехорошее, – и это произойдет обязательно.
Сделав второй развод часовых, Горшков заснул вновь, погрузился в яркий счастливый сон – он видел собственное детство, рыбалку на озерах, куда часто бегали курганские пацаны и без добычи почти не возвращались, обязательно приносили карасей… Потом краски сна поблекли, света стало меньше, откуда-то приползла пороховая хмарь, и капитан ощутил тревогу, наползшую откуда-то в него.
Вообще, на войне тревога сидит в человеке всегда, это закон, без тревоги здесь и дня прожить нельзя – именно она заставляет солдата лишний раз поклониться пуле, лишний раз проверить, не зарыта ли где-нибудь на хоженой-перехоженой тропе свеженькая мина и нет ли в веселом, безмятежно спокойном месте вражеской засады. Не живет на войне боец беспечно, без тревоги и забот, не дано, тревога всегда находится в нем, она с ним… И будит солдата в нужное время. Капитан Горшков проснулся.
По ткани палатки с шуршанием бегали мелкие капли дождя – будто мыши, было их много, в провисах ткани собралась вода.
Рядом мирно сопел Мустафа, в дождь всегда хорошо спится, капитан некоторое время слушал водяные шорохи, тишь, возникающую после них, попытался понять причины тревоги, всплывшей в нем на поверхность, но не находил. Похоже, где-то рядом обозначилась опасность, и он ее ощущал.
Он поспешно вылез из палатки. Было темно, туманно, в нескольких шагах уже ничего не различишь, – Горшков прислонился плечом к мокрому стволу, всмотрелся в ночь: что там? чего видно?
Ничего, только темное ослепление пространства – оно навалилось на него, попыталось подмять – человек в такой кромешной слепой обстановке быстро теряется, он бессилен, незряч, он становится никем.
Следом из палатки беззвучно выбрался Мустафа.
– Что, товарищ капитан? – шепотом спросил он. – Случилось чего-то?
– Не знаю… – ответил капитан, напряженно вглядываясь в дождевую наволочь.
Темнота немного разредилась, пожижела, глаза почти привыкли к ней, стали видны и другие палатки, мокнущие под водяной сыпью, – бока у палаток провисли, провисы наполнились водой.
Мустафа перекинул через шею ремень автомата.
– Может, посты надо проверить, товарищ капитан… А?
– Надо, Мустафа. – Капитан шагнул в темноту, обошел несколько палаток, в которых обосновались саперы и внезапно присел, Мустафа ткнулся лицом в его спину и также присел: впереди грохнул выстрел. Сильный, звучный, словно бы ударили из базуки. – За мной, Мустафа! – прошептал капитан и ринулся в темноту.
А там, впереди, полыхнула автоматная очередь, задавленная дождем, потом другая, затем третья. Одна из очередей была выпущена из нашего автомата – звук ППШ всегда, даже во сне, можно отличить от торопливого стрекота немецкой «швейной машинки». Из ППШ стрелял явно часовой.
Капитан первым добежал до него, упал на мокрую раскисшую землю.
– Что случилось?
– Немцы. К реке пытаются пройти.
– Много их?
– Не очень. Я засек человек пять, не более.
Горшков понял, в чем дело, что тянет фрицев к реке, усмехнулся:
– К американцам хотят уйти, гады, – мотнул отрицательно головой, – только вряд ли у них это получится.
Темнота невдалеке окрасилась в оранжевый цвет – будто свечечку кто в ночи зажег, в то же мгновение раздался автоматный стрекот. Капитан засек место, где запалилась и тут же погасла свечка, поспешно переполз к другому дереву, спрятался за толстым вековым комлем. Ординарцу сказал:
– Мустафа, ты пока оставайся здесь.
Главное, в слепой ночной стычке не угодить под свою пулю либо под случайную автоматную очередь… Тьфу, что за глупые мысли лезут в голову? А в стычке дневной в таком разе что главное?
Он ждал, когда в темноте снова запалится и тут же погаснет свечка, главное было понять: перемещается противник или залег, находится в одном месте?
Немцы перемещались по берегу – видать, где-то недалеко у них была спрятана лодка, к ней они и устремлялись, иначе чего бы им тут держаться, рисковать – давно бы растаяли, как духи бестелесные… А может, они хотят попасть на тот берег через заминированный мост?
Для этого надо быть совсем наивными людьми. Кто же даст им это сделать? Мосты всегда, любой армией брались под охрану в первую очередь. Так было и в этом случае.
Ну обозначьтесь, фрицы, ну! Неужели вы ушли? Нет, не должны уйти, фрицы здесь.
Сырость заползла капитану за воротник, опалила холодом, он поежился, шевельнул плечами.
Снова застрекотал немецкий автомат, очередь была короткой, слабой, пули, выбивая искры, защелкали о ветки деревьев, от земли сильно запахло плесенью. Свечка зажглась в старом месте – значит, немец залег – посчитал темноту и туман своими верными союзниками: не выдадут, мол… Выдадут, еще как выдадут.
Это один фриц… А где остальные? Часовой сказал, что их было пять человек… Или примерно пять – не один, в общем.
Было холодно – Горшков выскочил наружу без плащ-палатки, теперь сырость пробирала его до костей, допекала, как могла, уже обозначилась под лопатками, по коже заскользили противные, острекающие своими колючими мокрыми лапками муравьи, – гнилая все-таки весна на Эльбе.
В темноте снова запалилась и потухла свечка, шум дождя погасил стрекот выстрелов, пули всадились в комель, за которым лежал капитан. «Однако фриц бьет метко, – отметил Горшков, – он чего, видит что-то, что-то различает в этой грязной плотной темноте?»
Плоско прижимаясь к противной мокрой земле, капитан переполз к Мустафе.
– Вроде чего-то выжидают фрицы, – сказал он, собственного шепота почти не услышал, – не пойму. Может, попытаться взять одного из них?
– Зачем он нужен нам, товарищ капитан? – просипел Мустафа в ответ. – Наступление у нас не предвидится, начштаба языков не требует… Я бы не стал.
– А вдруг эти гады волокут за Эльбу какие-нибудь документы? К американцам… А?
– Все равно игра не стоит свечек. Я бы не стал.
– Как сказать, Мустафа… – Горшков, поморщившись, застегнул под горлом верхнюю пуговицу гимнастерки – за пазухой скоро будет хлюпать вода… – Жди меня здесь.
Он пополз в темноту, целя в то место, где трижды загоралась, а потом угасала свечка – было похоже, что меткий стрелок никуда не делся, продолжал сидеть там. Конечно, в словах Мустафы есть резон – а на хрена нужен этот вшивый пленный, что может он изменить в ходе войны? Оттянуть победу на один день? Вряд ли он сумеет это сделать?
Дождь продолжал шуршать по-мышиному, вызывать озноб, онемение в мышцах, влажные, ставшие морщинистыми и непослушными пальцы тоже онемели, от недалекой реки тянуло ледяным холодом. Хорошо, что в звуке дождя гаснет всякое неосторожное движение – ничего не слышно… Горшков попробовал прикинуть, сколько метров осталось до немца – выходило, немного. Метров пятнадцать всего.
Надо подползти к этому удалому стрелку метра на четыре, иначе немец опередит его, успеет скосить из автомата, когда капитан прыгнет на него. Под руку капитану попали гильзы – целая горсть использованных пустых патронов лежали кучкой, Горшков ощупал гильзы пальцами – показалось, что они еще теплые, – в этом месте еще десять минут назад находился один из фрицев-стрелков. Капитан аккуратно сдвинулся назад – если гильзы, задев друг дружку, зазвякают в ночи, это засечет автоматчик, лежавший уже совсем недалеко от него…
Хоть и недалеко находился фашист, а Горшков не видел его – темнота, сырость, грязный туман поглощали предметы, растворяли не только людей, но и огромные дома, деревья, целые парки и растерзанные снарядами рощи.
Капитан покрутил головой – показалось, что под воротник, прямо на спину, на хребет ему вылили сразу несколько ковшов стылой воды – это дерево сотрясло на него свои мокрые ветки, урожай был богатым, – поспешно отодвинулся от дерева. Ну хоть бы кто-нибудь из немцев обозначился в темноте, пальнул из автомата – нет, молчат фрицы, затаились.
Горшков прополз еще несколько метров, замер, пожалел, что взял с собою автомат, можно было обойтись пистолетом и ножом, а автомат оставить около Мустафы, – вгляделся в недобро шевелящуюся темноту: где же все-таки находятся немцы? Или же они ушли все, остался только один – для прикрытия? Либо не осталось ни одного? Капитан перевел дыхание.
Стрелок все-таки обозначился – не выдержал либо что-то почувствовал; вязкую темноту ночи разрезала короткая оранжевая вспышка, возникла она совсем недалеко от капитана, метрах в десяти, Горшкову показалось, что он даже услышал шипение пуль, унесшихся в пространство.
Стало понятно, что немец никуда не двигался, находился на месте и, судя по всему, он один – оставлен прикрывать отход своих товарищей.
Ну а те… Те либо шкуры свои спасают – слишком много у них скопилось здесь грехов, либо очки зарабатывают, волокут к американцам какие-нибудь документы и для этого ищут проход к Эльбе в другом месте.
Последние метры Горшков полз, сдирая пуговицы с гимнастерки, старался слиться с землей, самому стать ею, – и все-таки глазастый стрелок углядел его, приподнялся недоверчиво и вскинул свой «шмайссер». Нажать на спусковой крючок не успел – капитан со всего маху ударил его прикладом автомата в лоб.
Немец только ботинки вверх вскинул. Наряжен он был в штатское – в серый, испачканный грязью плащ, в разъеме которого был виден воротник рубашки с крупным, неумело повязанным узлом галстука, из-под плаща выглядывали намокшие полосатые брюки.
Капитан сапогом отбил в сторону автомат, склонился, чтобы связать поверженному стрелку руки, но что-то остановило его. Он машинально отпрыгнул в сторону и в то же мгновение тяжелое тело, выплюнутое темнотой, промахнуло мимо него.
Это был здоровенный фриц, также одетый в штатское, в шляпе, с ножом в руке – он почему-то хотел втихую снять капитана, дур-рак… Зачем? Гораздо проще было сделать по-другому. А сейчас фриц проиграл. Самого себя: проиграл, вот ведь как.
В следующий миг приклад горшковского автомата всадился ему в затылок – ударил капитан с силой, у фрица чуть челюсти не вылетели изо рта, чуть на землю не шлепнулись – нельзя было допустить, чтобы он поднялся.
Еще раз отпрыгнув, Горшков растянулся на мокрой, наполовину спаленной траве – надо было оглядеться. А вдруг из темноты вывалится еще один гитлеровец?
Было тихо. Только скрипела на ветках, шуршала в траве и палых листьях, на голых обожженных плешинах мокреть, сыплющаяся с неба, да угрюмо ползли ворохи тумана в темноте. Ничего опасного вроде бы не было – немцы, кажется, ушли. Кроме этих двоих.
Выждав несколько минут, капитан поднялся, постоял немного, изучая темноту. Тут все было важно – и то, что он видел, и то, что слышал, а главное – что ощущал. На войне внутри у всякого человека обязательно сидит некий чувствительный датчик, позволяющий и события предугадывать, и опасность ощущать, и выстраивать линию поведения, чтобы не влететь в какую-нибудь ловушку.
«Не то» у Горшкова уже было – в степи под Сталинградом он пренебрег этим правилом и вместе со своей разведкой попал в капкан. Только он и Мустафа тогда и уцелели. Да и то случайно. Интересно, что подсказывал тогда капитану его внутренний датчик и подсказывал ли вообще что-нибудь?
Этого Горшков не помнил.
Он вновь поднялся. Подошвы сапог на мокрых листьях разъезжались – ну будто маслом их смазали. Сапоги старые, стоптанные, рисунок на подошвах стерт – куда хочет обувь, туда и едет. В глотке сидела сырость, усталые мышцы были вялыми, кости ломило. Надо было отдохнуть хотя бы один раз в последние годы, поспать вволю, чтобы никто не будил, и выспаться, в конце концов, а потом уже – куда угодно: хоть в бой, хоть за обеденный стол… Любой приказ можно будет выполнить.
Держа автомат наизготове, он подошел к лежащему немцу – тому, который захотел поиграть ножичком. Выбил из скрюченных пальцев нож, поднял его с земли, стер с лезвия грязь. Это был знатный ножик – эсэсовский кортик с костяной ручкой и коротким, очень прочным, закаленным лезвием. Такими ножами пользовались еще штурмовики Рема.
Капитан приподнял голову эсэсовца. Тот был мертв – очень уж лихо опечатал его Горшков прикладом. Второй немец был жив. Капитан ухватил его за шиворот, резким рывком поставил на ноги.
Немец был вял, как тряпичная кукла, лицо его плоско светлело в темноте, изо рта то ли кровь текла, то ли слюна – не понять, Горшков встряхнул его снова, встряхнул так, что у неудачного стрелка даже лязгнули зубы. Подобрал с земли измазанный грязью «шмайссер», снова встряхнул пленника:
– Пошли, пошли, тетеря недоделанная…
До самого утра пленник сидел в палатке, кряхтел болезненно, ощупывал свою голову, морщился и снова кряхтел – капитан славно угостил его. Мустафа не спал, охранял немца, позевывал досадливо, сверлил взглядом фрица, но глаз не смыкал – нес караульную службу.
Утром немца отвели в штаб полка. Немец был упитанный, розовый, с лоснящимися холеными щеками, но когда он попал в плен, то сгорбился, постарел и вид теперь имел какой-то общипанный, будто после болезни.
Когда днем Горшков заглянул в штаб, то Мурыжин, старший лейтенант-переводчик, сообщил, что пленный оказался интендантом, интереса особого не представлял, поскольку всю жизнь командовал только амуницией да лопатами для рытья окопов и оставлен был на берегу действительно для прикрытия – прикрывал отход шести человек, которые собирались уйти к американцам. Помогал ему гауптман Фефель. Фефелю не повезло: приклад у русского автомата ППШ оказался крепче его черепушки.
– А кто были шестеро ушедших?
– Начальник гестапо, его зам и еще четыре местных шишки.
– Ушли?
– Говорит, что нет – вернулись в город.
– Ну и слава богу, – проговорил капитан удовлетворенно, – в городе мы их где угодно найдем. Кого-кого, а начальника гестапо тут должна знать каждая собака. Документы они с собою никакие не несли?
– Интендант говорит, что несли. Бумаги находились у второго гестаповца, у зама.
– Потолковать с этим интендантом можно?
– Сколько угодно. После того как ему обработали ссадину на голове, он стал говорлив, как попугай, которому пообещали орехов, – не умолкает ни на минуту. Все благодарит за то, что не убили.
Горшков понимающе склонил голову набок, усмехнулся: