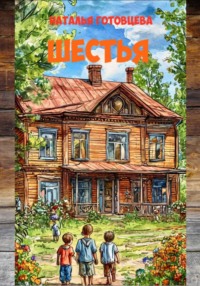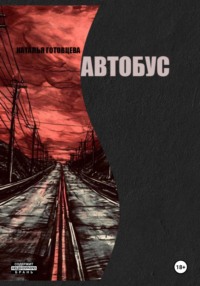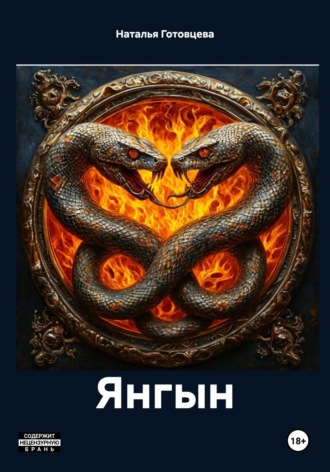
Полная версия
Янгын

Наталья Готовцева
Янгын
Сознание Айана пробуждало его в настоящее – он слышал чьи-то голоса, то вновь проваливался в темноту и в бреду уносился в уже пережитые дни. Боли он не чувствовал, притупилась, да и совладал с духом. Тело – это просто плоть, а дух – вот с чем трудно сладить. Сторговаться с внутренним голосом, чтоб не поддаваться слабости. А вот ныне столкнулся с таким, чего и врагу не пожелаешь. Выбора эта напасть не оставляет. Вот и выходит, что лучшее на сегодня – это покинуть суетный мир, чем предать товарищей. Только эта мысль и давала сил охотнику. Он, покинув земли своего народа саха и забредший в поисках приключений в самые дальние дали, сдружился с донскими казаками, они стали его семьей, частью его недолгого бытия на этой бренной земле. Навидался Айан с ними всякого. А как по-другому, ведь жизнь не скатерть-самобранка с одними лакомствами и яствами да под твой вкус. Охотник даже на службу послом московского царя был принят. За тридевять земель по большой воде в заморские края хаживал. И в темницах сиживал. Порядком походил с отрядом атамана Тихонкова, почитай, три с лишком годка, но ряд злоключений расстроил их будущность. Сотник Заворуй, товарищ, каких поискать, погиб от рук изменника есаула Фрола Удатного. Айану и жене с детками могучего сотника удалось сбежать. Кабы не Кузьма, дядька Кудеяра, и Бабуня, кормилица атамана, вряд ли и они избежали кровавой расправы. Бабуня, баба дивная, редкой отваги да мудрости женщина, сложила голову, защищая своего воспитанника и его ближних, верных сотоварищей. Айан сопроводил семью братка Заворуя до безопасных мест, дошли уж, верно, до сибирских земель, сховались от вездесущего Удатного. Фрол уловками, злоумышлениями ныне имеет хорошее место при царском дворе. Таки ступенька за ступенькой хитростью да лукавством и доберется до оной, ему одному известной вершины. Только и небеса все видят. Сковырнет с выси головушку рано или поздно. Да ему и в этом миру есть перед кем ответ держать. Опосля, расставшись с Дуняшей и как сподобилось вертаться в Москву, Айан прознал, что Кудеяру удалось-таки избежать участи, уготованной братцем, – болтаться на виселице всем в укор и нарекание, как вору и разбойнику. Где ж теперь ветер треплет кудри на бесшабашной головушке лихого братца – одному верховному Тенгри ведомо. Одно уж явно: атаман не попустит есаулу оговора и убиения семьи и братьев. И энто явно, как то, что солнце вновь взойдет. А Айан глядит сейчас в закатное небо и задается своими вопросами к творцам.
– Паха, глянь, да он живехонький! – здоровенный молодой мужик с испугу перекосился в лице от внезапного прозрения и непроизвольно разжал руки, опустив тело, которое держал за ноги, чтоб стащить с возка.
Пахом в ответ, недовольно бурча на испугавшегося товарища, кивнул – хватайся.
– А те, Тишка, чаво, жив али почил? Велено схоронить, стало быть, схороним. И будя мне глаза таращить! – сдвинул для острастки брови и, сверля Тишку прищуренными очами, сказал:
– Я ж тя намеренно взял. А то возятся с тобой, как с нетронутой девкой. Пора б уж мужать, вон уж борода полезла.
– Я грех на душу не возьму, – отступая, мотал головой Тишка.
– И Фрола Алексеевича не убоишься?
Криво ухмыльнувшись, Паха крепче ухватился за безвольные руки ожившего мертвяка и жестко стянул на мокрую землю, выпрямился.
– Так ступай и молви ему: не хочу грех на душу брать, сам закапывай.
Раздраженно пнул лежачего, тот еле слышно простонал.
– Энтот Саха живуч, как кошак! Вся кожа содрана, живого места нет, заговоренный, шо ли!
Тут оба резко вздрогнули. Пахом схватился за ножны, а Тишка сжал голову в плечи. Пугнул их огромный ворон. Свидетель многих тайных помышлений стремглав взлетел с ели, шумно, широко взмахнул крыльями почти над головами лиходеев и раздражающе грозно каркнул. Тишка задрожал, всей кожей ощутив приближающую опасность.
– То предвестник смерти, эвона гляди, погодя и бяда следом нагрянет, ждать не заставит. Чую, верная примета, – Тишка проговорил испуганным дрожащим голосом и, истово перекрестившись, кинулся к коню.
Паха, завидев, что собрат отвязывает своего скакуна, нарочито незлобиво окликнул его.
– Тишка, да куды ты? Ну, учуяла падаль, кажной твари своя добыча. Ты, Тишка, токмо подсоби яму подкопать. Земля после дождя мягкая, враз управимся, а опосля могешь и валить. Сам закидаю. Но с тя причитается – четверть доли от мягкой рухляди[1] отдашь. Семенову не доложусь, и ты молчок. Ну-у, чаво, по рукам? – Пахом подмигнул здоровяку.
Тот в растерянности потоптался на месте, раздумывая про себя, что Пахом опосля не отстанет и заклюет издевками, вернулся к возку и пробурчал:
– Лады, быть по сему, согласный.
Паха взял лопату с телеги, осмотрел ее по-хозяйски, поправил черенок и протянул Тишке.
– Я давно приметил – энтакие верзилы, как ты, душонкой хрупковаты. Хиленьки вы! Чуть чаво коснись – моя хата с краю, и бяжите за Богом схаваться, – брезгливо сплюнул прямо под ноги крестящемуся товарищу, – а Саха, бедолага, ни силенкой могучей, ни росточком не вышел, от горшка два вершка, а духом как стоек! Энтоких не заломаешь – Фрол ничегошеньки не вытягал с няго. Жаль токмо, шо не с нами. Я б с энтоким товарищем в любую передрягу не убоялся бы полезть, – харкнул на ладони, растер и взялся за лопату.
– Харе пялиться, копай ужо, стемнеет вскоре.
Айан был бессилен исправить что-то в своем положении. Мягкая земля приняла его холодно, остудила ноющее тело, чуток полегчало. Почитай месяц нечеловеческих истязаний и пыток с тех пор, как его близ Казани нагнали подручные Семенова и пленили, наконец-то заканчиваются. Он спокойно принял зловещий поворот судьбы онемевшими душой и телом. Покорился. Кабы даже знал, где упрятали добро Бабуня с Кудеяром, все едино – не выдал бы. Зла на Фрола не держал: не уберегся от повторной злосчастной встречи, так и поделом мне, дубине. Одно благо – не дошел тогда чуток до Дуняши, не выказал место ее обитания с детками да дедом Кузьмой. Не вышло попрощаться, но, как говорят на Москве: "Что ни делается, все к лучшему". Охотник не дозволял ни капли жалости к себе, чтоб уйти достойно: пусти в ход "саха ньоҕой", и ни одна тварь не добьется желаемого. Одно чудовищно несправедливо и огорчительно – не думал, что помрет эдак заживо погребенным, куда еще гнуснее. Чем прогневал творцов, что не дали полный век прожить и забирают в нижний мир? Да, не милостиво подыхать одному среди недругов вдали от дома. И не между небом и землей по обычаю народа саха схоронят, а вот так, грязно, под землю, в самое пекло к гадким демонам, что питаются душами. А как без жертвенного коня – друга-спутника, и без ножа, и без лука со стрелами? Эта крайняя подлость Фрола более всего не давала покоя. Но Айан гнал прочь бессильный гнев и обратился к доброй памяти, как бы прокручивая жизнь назад, и всплыло до умиления, как наяву, родное живописание: тайга – девственные, бесконечные, дремучие леса, кедры высотой с небо. Белочки играются, перескакивая с ветки на ветку, пряча друг от друга кедровые шишки. Медведь – таежный хозяин, пыхтя, ступает своей тропою, легко преодолевая горы валежника. Лайка загнала соболя на одиноко стоящее дерево и горделиво призывно лает хозяину – гляди, что я тебе добыла. С отвесной скалы видна полноводная речка с прозрачной водой, бежит себе перекатами, унося с собой все горести и печали. Хватило сил дать себе волю помечтать, пусть уже о несбыточном, но все ж отрадно. Будто потянуло дымком – это на стойбище дядья с братьями жарят на костре только что освежеванного оленя – невиданное, удивительное же событие: путник Айан, пройдя трудными долгими тропами, исходив за много лет иноземные страны, города, селения, дойдя по большой воде на другой конец земли, повстречав люда разного и доброго, и злого, сподобился вертаться домой. Есть что порассказать сородичам – все в радостном предвкушении. А вот и отчий дом. Постаревший отец сидит на табурете возле камелька, перекинув ногу на ногу, в зубах потухшая трубка, щурясь, внимательно рассматривает подаренный Айаном оттоманский кинжал. Мать в цветастом платке на плечах (тоже дар блудного сына), взбивает сливки, подсыпая землянику. Ласково улыбается и не больно шлепает по ладошкам Айана – не лезь под руки, не хватай. Э-эх, сейчас бы искупаться в солёном озере, раны подживить, подкрепиться опосля. М-м, күөрчэх с оладушками и испить бы быырпах!
Сквозь заплывшие сплошным кровоподтеком глаза некоторое время пробивался свет, пока не удушила тяжесть земли, что, падая комьями, больно добивала истерзанное тело. Последнее, что ощутил охотник перед тем, как погрузиться в вечный сон, – это сырой могильный холод.
Глава 1
ДУНЯША. Близ границ Сибирского ханства, октябрь 1570 года.
Ася шла с погоста и с тревожным волнением поглядывала на непривычно молчащую мать. Ту знобило, но не от свежего морозного воздуха, а от тяжкой болезной хворобы. От былой Дуняши осталась одна тень – почерневшая и иссохшая, с мутными желтыми глазами, еле плелась даже под горку. "И эту вскорости следом за дедом Кузьмой снесем на погост", – наведалось вновь назойливое. Ася отмахнулась от наступающей ужасти – только бы не заплакать, и, чтоб скрыть подступающие слезы, начала поправлять шаль, и так обмотанную туго-натуго, но неотступная дума лезла и лезла. Беспроторица – вот она, вся налицо. Гераська, гад, убег к казакам, бросил ее одну тянуть унылое до постылости существование. Понять его можно, любому терпению конец наступает, вот и не сдюжил. А кому по нраву извечно пьяная, скулящая баба в избе, все пропившая, вплоть до последней скотины? Сколь вызволяли мать из всяких передряг. Связалась как-то с таким же пропойцей, так он ей зубы повыбивал, отдубасил нещадно до полусмерти. Еще орала, харкая кровянкой, когда ее домой волокли: "Сдохнуть хочу, дайте упокоиться, пусть вовсе насмерть забьет". Все натерпелись. Ну а Аси куда тикать? Не могла она бросить престарелого старика с бедовой матерью. Жалела она мать. Злится и жалеет. А ведь ранее, когда Ася совсем малой была, им на селе жилось недурно. Мать не так часто прикладывалась к сивухе, была благостнее, веселее. Дом, хозяйство держали исправно. Все ж два мужика – малой да старой, худо-бедно, но жили не хуже других, однако мать с годами становилась все злее и гневливее. Без выпивки ни дня не проходило: всякми ухищрениями, наблядословит, выгадает момент, и вот она снова ни лыка не вяжет. Бди не бди, окрутит всяко. Увещевания помогали на время, виновато оправдываясь, держалась считанные дни и вновь за свое. По первости она, захмелев, зачинает лить слезы по супружнику, опосля досадливо клясть – обещал вернуться к ней, а сам, злыдень, обманул. А что сам-то? Спасая же ее с малыми детками на руках, в рубиловке и сгинул. Ежели кого винить, так это Фрола – собаку поганую. Да и дело прошлое, ужо б жить своей жизнью, молода ж еще, а не собственным горем упиваться и терзать ближних. Будто ей одной тяжко. И эта «песня» про подлюку есаула и добросердечных атамана с Бабуней да охотником Аяном, как сказка на ночь. Кажный день, до оскомины, почитай тринадцать лет прошло с того злосчастного дня. Сама себе всю печень проела, и недоброхотов не нать.
В тот день, самый жуткий в воспоминаниях Аси, когда приволокли побитую мать, и та истошно билась в припадке и умоляла добить ее, она, малая, восьмилетняя, убежала в поле и вся в слезах, воздев руки к небу, поклялась: "Подрасту, сбегу, найду Удатного и убью! Убью самой лютой смертью! Мною и на мне пресечется его удаль!". Вспомнилось, ком гнева подступил к горлу, в груди сдавило – не продохнуть, но нарастающая ярость схлынула – Ася отвлеклась на позади скрипящие по снегу шаги.
– Дуняша, к тябе шо ль идем? Помянем деда по-нашенски, – бодренько их нагнал колченогий сосед и участливо взял под руки мать, а взгляд у самого глумливый.
– Дед Фома, ты б ковылял своей тропою. Зреешь – скверно ей, – еще в запальчивости от дурных воспоминаний Ася хмуро зыркнула и дергано перехватила мать у соседа.
– А ты, девка, пошто така неласковая? Глянь-ка, начисто страх утеряла! – Ворча, коротко взмахнул рукой, – А, ну брысь, малая! Деду уважение проявить надоть. Его на селе все почитай жаловали, хучь и пришлый. И о вас заботился. Тебя, малую, жалел.
С укоризной молвил и уставился на Асю: не дерзи, мол. А та в ответ вновь огрызнулась: проявилась не улыбка, а оскал волчонка.
– А не слыхал, шо бабами сказано было? На дому у нас прибрали, полы помыли, по углам вымели, сор за порог снесли и сожгли. А на трапезу пожалуйте к Ефросинье, – кривляясь, как бы приглашая, поклонилась.
– Дык, Ефрошка нам не нальет, – развел руками дядька Фома и, хитро уставившись, подмигнул Дуняше.
– А нам бы по чарке токмо, да, Дуняша? Дед бы одобрил.
И тут чертыхнулся, оступившись, под ноги попался заснеженный камень. Ася метко подхватила в воздухе слетевший с головы Фомы колпак-валянку. Рослая, крепко сложенная, была почитай на голову выше старичка, вплотную подошла к Фоме и, резко ухватив за борт зипуна, притянула к себе и прямо в лицо выдохнула сквозь зубы.
– Мы с мамкой заново жизнь зачинаем, как зимушка-завируха-снежница, с чистого белого снега. Засим тебе нечаво тут-то крутиться. Подбивать.
Она резко стукнула Фому по груди колпаком, оглянулась на мать и, глядя ей в глаза, ясно дала понять, что, если та согласится на застолье с хмельным, она уйдёт и оставит её. Досадливо, почти крича, Ася произнесла:
– Ну-у-у, мы ж сговорились, ма!
– Ты, Фома, ступай к Ефросинье, поминки тамо. Мы нагоним, – уставшим, болезненным голосом еле выговорила Дуня, но прозвучало это твердо, поставив точку в неприятном разговоре.
– Вырастили на свою голову храмотную! Токмо нечистых тешить. Смотри, девка! Бабам от заумия одна бяда, – дед погрозил пальцем, нахлобучил шапку и, ворча, поковылял вниз к селению.
– Золотце мое, уговорились. Я слово не нарушу, не шуми токмо. Хатку окурить бы дымком можжевельника, Бабуня завсегда так делала. Энто мы, как Митрофановна преставилась… – Дуняша предалась было воспоминаниям, но вовремя осеклась – дочь запретила жить памятью о прошлом, – для нас энто, Ася. Нам с тобой зело добре почивать будет. На улице ужо морозно, бабы, небось, печь истопили, вот и пожечь бы веток.
– Окурим, помолимся, опосля к тетке Ефросинье пошагаем, – чуть смягчившись, буркнула Анисия.
– Ты ступай к ним без меня, а я, как доплетусь до избы, прилягу. Под ребрами давит, невмоготу, силенки сдают, не утерпеть. Токмо не засиживайся, мне тебе след важное изъяснить. Пришло время, – тяжко выдохнула, – пора, – оглянулась на погост, осенила себя крестным знамением, еле слышно зарыдав, задержалась в низком поклоне.
Перед святыми иконами мерно покачивалась зажженная лампадка, источая благоухание. В доме было тихо, на редкость чисто и покойно. Мать шептала псалом. Ася, не засиживаясь у тетки, наскоро вернулась домой, у порога стряхнула снег, скинула чоботы и, чтоб не сбивать мать, тихонько присела на лавку у печки, вслушиваясь.
Дуняша молилась, лежа на постели:
– Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу eго: с ним есмь в скорби, изму eго и прославлю eго, долготою дний исполню eго и явлю eму спасение Мое[2], – закончив, Дуняша кивком позвала дочь.
Дуняша и не помнила, с какого времени пустила свою жизнь по склону вниз, да так безвозвратно, что остановить было уже не в ее или чьих-то силах. Заполняя пустоту в душе показным весельем, увлеклась не на шутку. Загулы стали часты, с каждым разом теряя способность сопротивляться недугу, стала гневливой, а со временем и вовсе безвольной. Ее не пугала смерть, ее пугала жизнь. Жизнь без самого первостепенного человека в ее судьбе. Без стоящего надежного мужика, того, кто был с ней и ласков, и приветлив, кто с первой встречи только и делал, что заботился о ней. Она отвечала ему тем же – нежностью и верностью. Замечая в глазах близких укор и порицание, паки пуще злилась – как не поймут, что тошно мне, нет боле того, кто может возродить ее, и во всей земле на этом белом свете нет боле никого и ничего, что могло бы хоть на малость порадовать. Дочурка Ася? Она как раз-таки самое мучительное тыкание о былой доброй жизни с Воруюшкой, вся в него. Что она, что Гераська, оба росли как на дрожжах, статью более названный братишка схож, хоть Гераська и не родной крови. Глянешь на них, и всплывает рядком Заворуй. А очи девки, взор ейный. Не могла Дуняша в них взирать – точь-в-точь как он глядит. Завсегда с небывалой нежностью, и только на нее Воруюшка так глядел, на "свою усладу", а ежели осерчает на что – взгляд становился жгучим, не спрячешься. Вот так и Ася глядит, ох и обжигающе! Но он ведь их предал! И тут же осеклась, ругая себя: сама себе-то не ври. Это ты его память предаешь, это ты слабину дала. И тогда не посмела, а могла же вертаться и увести его с собой. И Бабуню могла спасти, которую вряд ли бы кто сдвинул с места, проросла корнями в свое местечко, осталась, чтоб постоять за всех, особо за своего родненького, воспитанника Кудеяра. Стояла, как последний щит. А Дуняша, молча, как безропотная корова, мыча и причитая, прижимая Асю к груди, бежала к холму, к схрону, потом кляла себя: верталась бы попытать, умолить. Спасла бы хоть Бабуню, да не сдюжила. У кого теперь искать утешения? Упрятала глубоко в душу ту свою несостоятельность – добром не отплатить тепереча тем, кто спас ее с дитем, сгинули. Все сгинули. И Аянку, видать, смерть нагнала. Гераська с дядькой Кузьмой ходили до казаков, прознали – Фрол его пытками мучил, опосля ни слуху ни духу. Верно, что вызнать хотел. А вот тебе, гниль болотная, кукиш, а не добро Кудеяра! Аянка и не ведал, и нас не выдал, за это завсегда мысленно благодарила охотника, молилась и ставила свечки и за упокой его души, и за здравие, хоть и некрещеный басурманин. Дядька Кузьма предлагал уйти еще далече, но вроде обошлось. Но успокоился ли Удатный, не сведать, остерегаться и ныне не помеха. Так и металась в сомнениях, так и жила думами – а кабы поверни по-другому в тот злосчастный день, все было бы не так, все б вернее было. И тут же доходила думами: не изменить былого, дура, окстись, попытай смириться да радуйся тому, что есть. Но не могла – надломленный дух не сопротивлялся, все перекосилось, не выправить. Благо дядька Кузьма был рядом, все на нем и держалось. И справный помощник, сиротка Гераська, названный братец, где он тепереча, не сложил бы голову в чужой войне. Кузьма обоих их с Асей воспитал, позаботился – старцам в лесном скиту недалече от их села поклонился золотом да жемчужной нитью, те обучили деток своим знаниям. Ася хоть и девка, но и старцам кормиться надоть, недолгонько уламывать пришлось, взялись и ее учить. Хотя зачем это девке, напраслина, выросла неугомонная, дерзит всем. На селе она одна такая. Что грамотная – это еще полбеды, а вот со своим острым язычком и упертым характером, непослушным взглядом ни в одни ворота, оттого-то все шарахаются – сибиряки народ угрюмый, не любят ломки сложившихся заведений и традиций. Энто ничего, пущай. Ей здесь не обитать, ей след вольную жизнь вести и даже статься не в Московии. Да хоть бы и в заморские дали уйти. Времена ныне на Руси суровые, доходят и до них вести. А так отсиделись в далеких сибирских краях, спасибо сестре Ефросинье – дом родительский уступила, сами с мужиком себе новый отстроили, всегда подсобит и ни словом не упрекнет. Но пришло время Дуняши, пора ей нагонять Воруюшку. Трудно уходить, боли в печенке выматывают. С годами обильное питье только усугубило недуг. Бабуня упреждала: чтоб хворь не разрасталась, след глядеть, что в рот кладешь. Потравилась, будучи рожохой, сама чуть не сгинула и чуть дите не погубила. А то, может, знак был, статься, зря тогда Бабуня выходила ее. Но в таком разе как горько бы жилось Заворую. Нет, все правильно, оградил Господь ее мужа, он не ее с дитем спас, а его. "Ой, мой ты милой, жди, скоро я, недолгонько осталось, совсем туго-худо мне", – Дуняша ледяными руками обняла прижавшуюся к ней дочь. Последняя тяжкая ночь, нового дня она уже и не чает встретить.
– Прости меня, солнце, прости мое никудышное житие. Виновата я пред тобой, не взыщи.
– Что ты, мамушка, ладно все. Поспи, отдохни. Может быть, что надо? Воды, а может, чаю хвойного?
– Не суетись, полегчало мне. Ты лучше спой. Помнишь в детстве? Нашу любимую. Тятька тебе пел, а опосля я, качая тебя в колыске[3], напевала перед сном, – Дуняша закашлялась было, но быстро сглотнула, приподнялась, оперлась спиной о стенку и тихонько сама затянула:
В звездном небе темно-синем —
Светит лунный каравай.
Мать укачивает дочку —
Спи, малютка, баю-бай.
Зайка дремлет рядом с мишкой,
И щенок закрыл глаза,
Засыпай скорей, малышка,
Спи спокойно, егоза.
Ну а батька хмуро кинул.
Ася подхватила:
Ой, не ту играешь, мать,
Колыбельную для Аси,
Энтих слов не нать.
Не о Филе и Степашке.
Ты сыграй-ка про донцов,
Да про свист казачьей шашки,
Про обычаи отцов.
Про просторы нашей степи,
Да про ветер в ковылях,
Как сверкает в чёрном небе
Серебром чумацкий шлях.
Спой, как кони мчатся в поле,
Чтобы зналась с казаком,
И впитала казачью волю
С материнским молоком.
За слюдяным окном стемнело, только месяц ярким пятном играл бледными бликами. Тени от свечей казались стройной вытянувшейся ордой казаков, стоящих как один навытяжку, охраняя покой своих казачек. Одна тень подрагивала, потом вдруг согнулась, как под тяжестью, качнулась и провалилась в пустоту, как с пропасти, – свеча, оказалось, была порченая, надломилась. Дуняша и в этом увидела предзнаменование, встрепенулась – то ей знак, пришел ее срок. Ася поднялась, собрала еще горячий воск, сменила свечу. Подойдя к печке, взяла крынку, разлила хвойного чая по кружкам, матери и себе. Повеяло духовито. Асе завсегда было отрадно взять в руки обжигающий настой, уткнуться, потянуть носом – ой, как же тепло, и сразу покойно. Обернулась к матери, та, ласково взирая, следила за нею и всхлипнула.
– Непутево я прожила без твоего батьки…
Ася хотела возразить матери, но та чуть головой мотнула: не перебивай, дай покаяться. Ася подошла, присела у кровати, голову подставила под руки матери.
– Мне надоть нечто тайное поведать тебе, ты внимай. Жизнь коварная, сегодня ты в сохранности, а завтра затянет в омут, не выберешься. Моя вот зазря прошла и твою чуть не сгубила. За себя токмо понимала, маялась не тем, чем след было. Вон и очи твои ясные светом мало кады сияют, и улыбаться разучилась. Чем не моя вина? Моя. Тебе след податься из энтих краев.
– Что ты, мамушка! Я тя не оставлю, порешили ж, зачнем сызнова, – Ася закусила губу, глаза наполнились слезами и потекли по щекам, не удержала.
– Дитятко, сердешная моя, – Дуняша притянула дочь, обняла накрепко, насколько хватило силенок.
У Аси вырвалось рыданием все, что накопилось, все тревоги, все обиды, весь гнев, все пережитое. А мать поглаживала ее по волосам и о чем-то вещала и вещала. Ася перестала стенать, но, еще хлюпая носом, прислушалась.
– Тикать отсель, тикать. Да не бездумно тикать, а свое место изыскать. Знамо, судьбинушка окаянная… Верно одно: туто жизни не будет. Ныне кровью народной самодур и его упыри упиваются. Да что ныне, завсегда за все народ расплачивается, – приподняла лицо дочери, утерла ладонями остатки слезинок и, глядя озабоченно, проговорила страшным шепотом: – Не думай, что до здешних мест не доберутся, не обманывайся. Фрол ныне большую силу взял. Не нать тебе с ним пересекаться. У этой собаки душа гнилая, он из одной озлобленности запросто загубит тебя.
– Дык откуда ему знать, кто я?
– Не сама, так найдется, кому тебя или о тебе сведать. Васнь[4], и не со зла, без умысла, сами того не зная, и выдадут. Внимай чутче и обещай мне, что последуешь моему завету. Попытай найти Гераську и тикайте едино. Удирайте подалей, в заморские края. А прежде укажу место, где добыча кудеяровская упрятана, с лишком хватит обустроиться в любом месте. До того добра боле некому добраться, все сгинули. А добра там невиданно!
Дуняша прикрыла глаза, чуть было сызнова не закашлялась, прикрыла рот рукой, сглотнула и удрученно сказала:
– Но кому это принесло истинное добро, счастье ли? Не надо за все хвататься, на дорогу, на прокорм по первости, куда более, вам самой малости с лихвой достанет. Мир, Ася, большой, и добрых людей в нем немало, для добрых и без злата с серебром счастье сыщется, и ты встретишь свое и место свое найдешь.
Ася глубоко вздохнула, боль не давала ей покоя, но она собралась с мыслями и с искренним сожалением продолжила:
– Ослушалась я тогда Кузьму, не захотела уйти, все надеялась найти могилку Воруюшки, да где она, кабы кто знал. Сгнил с братьями-казаками в болотах. Ты поклонись тем местам, пускай мой Воруюшка и его братки покойно спят.