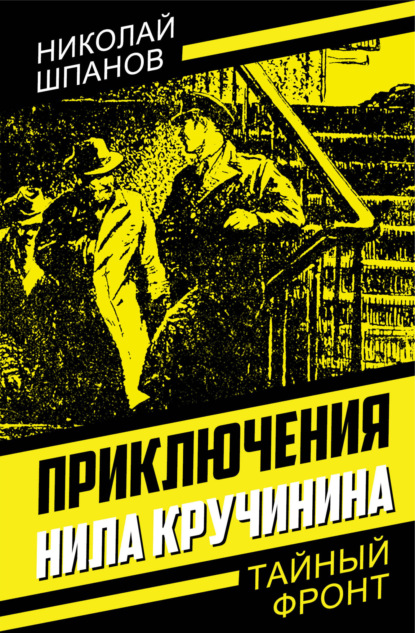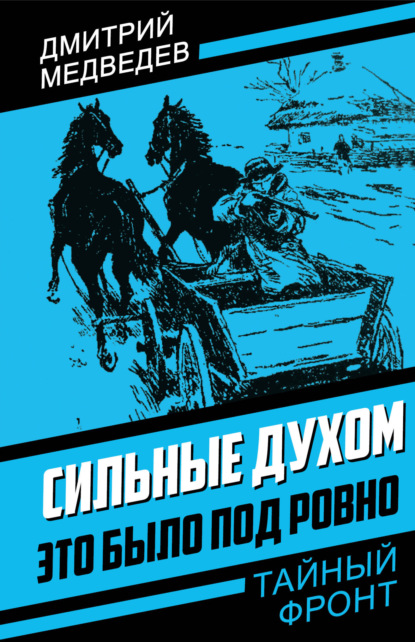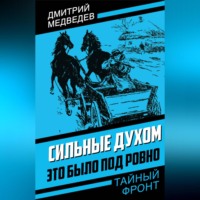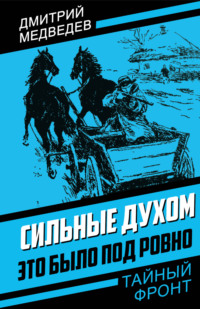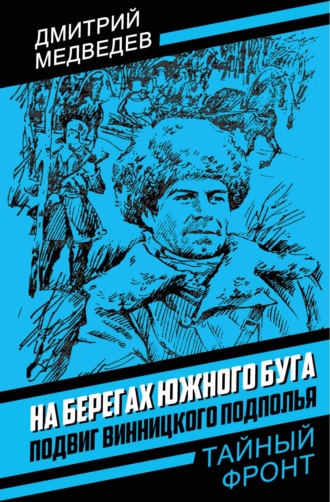
Полная версия
На берегах Южного Буга. Подвиг винницкого подполья
– Вот оно что! – обрадовался Семен Степанович. – А если вам возобновить эти знакомства?
– Попробую, – сказала Тапчина.
– Зайдите туда завтра, повидайтесь, поговорите с одним и с другим, все равно о чем, главное, чтобы впредь вы были туда вхожи. И конечно, послушайте внимательно, о чем они там говорят… Чем дольше вы там пробудете, тем лучше. На работу можете не приходить. Я жду вас завтра здесь в половине шестого.
Тапчина кивнула в знак согласия и молча ответила на его рукопожатие. Трудно было понять по ее лицу, довольна ли она этим первым заданием.
В назначенное время, в половине шестого, доктор Тапчина доложила Левенцу о своем посещении приемной бургомистра. Горелова она видела мельком, он поздоровался с ней весьма галантно, как и прежде, но не остановился, прошел мимо. Зато с Шутовым был довольно долгий разговор. Он отнесся к ней сначала подозрительно, подробно выспрашивал, как и почему она осталась, и не очень поверил, когда услышал в ответ, что ей нравится «новый порядок». Чтобы как-то оправдать свой приход, она пожаловалась, что ей, квалифицированному терапевту, приходится работать санитарным врачом, и попросила его помощи в устройстве на другую, более подходящую службу. Как ни странно, он обещал помочь, велел зайти на следующей неделе. Вообще же у нее создалось впечатление, что с этим подлецом можно найти «общий язык». Что-то уж очень детально, с нездоровым любопытством интересовался он условиями работы в горторге с точки зрения ее прибыльности, бросил даже такую фразу, что, дескать, там-то, в горторге, не пропадешь, была бы голова на плечах, и сказал это не без зависти. Он наверняка очень жаден, и вполне возможно, что за деньги готов пойти на все. Это непременно надо иметь в виду.
– Хорошо, – сказал Семен Степанович. – Ну, а что интересного вы услышали?
– Да как будто ничего.
– Сколько времени вы там пробыли?
– Часа два с половиной, даже три. Пока ждала его.
– Кто там еще был, кроме вас?
– Какие-то офицеры заходили и выходили. Человек пять националистов…
– И ничего интересного? – недоверчиво спросил Семен Степанович.
Тапчина недоуменно пожала плечами.
– Ну, а не было разговора о бирже труда?
– Говорили, что должны открыть какую-то биржу. Приходил даже немец в штатском, – не то Мейснер, не то Мейстер.
– Майстнер? Начальник биржи?
– Кажется.
– Нольтинга ни в какой связи не упоминали?
– Кто это Нольтинг?
– Заместитель гебитскомиссара.
– Нет. По-моему, нет.
– А когда биржа открывается?
– Я так и не поняла.
– Эх, доктор, доктор!.. – не выдержал Семен Степанович. – Не сумели выполнить простого задания, а я ведь за вас перед товарищами поручился. «Кажется», «по-моему», «не поняла»…
В это время в дверь постучали. Пришел Бутенко, чем-то необычайно возбужденный. Семен Степанович подумал было, не лучше ли отложить и это знакомство и весь этот план, пока не удастся по-настоящему подготовить Тапчину, но первые же слова Вани придали его мыслям совсем иной ход.
– Вы не слыхали? – спросил Ваня, переводя дух, и покосился на Тапчину. – Только что, минут двадцать назад, на углу улиц Дзержинского и Ленина кто-то стрелял в Нольтинга. Кажется, насмерть. Точно никто не знает: он ехал в машине. Что там творится!.. Все кругом оцепили. Машины какие-то, мотоциклы, солдат видимо-невидимо!.. Еле к вам добрался…
Больше ничего, никаких подробностей он не знал, да и не мог знать. Вряд ли догадывался он и о том, что к этому делу причастны его товарищи по подполью. Семен Степанович, насколько мог, постарался не выказывать чрезмерного волнения. Между тем ему уже не сиделось на месте: он должен был бежать туда, на улицу, к Бевзу, к Соболеву, он должен был их видеть и знать все до конца.
В городе было неспокойно. Дважды Семена Степановича останавливал военный патруль: требовали документы. Оба раза он спрашивал, что случилось, надеясь узнать какие-нибудь подробности, но ответа не получал. Наконец он добрался до Депутатской. Он постучал к Бевзу со двора и, едва отперли дверь, ринулся к нему в комнату. Иван Васильевич полулежал на диване; рядом сидела Наташа Ямпольская, а чуть поодаль, за столом, – румяный безусый паренек, в котором Семен Степанович каким-то шестым чувством угадал Володю Соболева. Судя по всему, они мирно беседовали и не ждали гостей.
Знали они сами немногим больше, чем Семен Степанович. Володя стоял в парадном напротив гебитскомиссариата, дожидаясь, пока выйдет Нольтинг. Тот сел в машину. Как только машина поравнялась с парадным, Володя выстрелил почти в упор. Затем, тут же бросив пистолет, кинулся черным ходом во двор, не спеша пересек его и вышел другим парадным на соседнюю улицу. Когда началась облава, он был уже сравнительно далеко от места покушения. Разумеется, парадное, откуда он стрелял, облюбовано было накануне; накануне же узнал он машину Нольтинга и выяснил, когда оканчиваются занятия в гебитскомиссариате.
Обо всем этом рассказал Левенцу Иван Васильевич. Сам Володя не проронил ни слова – только улыбка, непроизвольная и неудержимая, выдавала его чувства, показывая одновременно и гордость, и смущение, и то, как он еще юн.
Оставалось неизвестным одно: результат покушения. В девять вечера Володя ушел домой, так и не зная еще, насколько метким был его выстрел. Семен Степанович и Наташа остались с Бевзом в библиотеке. Утром явилась с новостями Валя Любимова. Она сообщила, что Нольтинг ранен и находится у себя в особняке под наблюдением фашистских врачей. Вторую часть плана осуществить не удается: улицы усиленно патрулируются, расклеить листовки нет никакой возможности.
Один из многих
Человек в старой, видавшей виды армейской шинели без петлиц, в старых обмотках или разбитых кирзовых сапогах, бывший солдат, оставшийся без оружия на оккупированной врагом земле, человек, ищущий пристанища или, может, уже нашедший его, стал в эту зиму привычной фигурой на улицах Винницы. Можно было почти безошибочно угадать судьбу этого человека. Окружение, плен, лагерь… Или: окружение, деревня, где раненых красноармейцев прятали и отхаживали крестьяне, и потом долгий путь по степям и лесам Украины, долгий путь и надежда, где-то устроиться, где-то достать документы, где-то, быть может, набрести на верных товарищей, не сложивших оружия… Куда направляется, шествуя по заснеженным улицам, человек в старой шинели? Чем занят его день? Что у него на уме?.. А может, вот этот, что не спеша прогуливается сейчас по тротуару, мимо патрулей, продрогших от февральской стужи, – может, он нашел уже теплое местечко где-то на службе у оккупантов? Почему он ходит так уверенно? У него в кармане, наверно, хорошие документы, только вчера выправленные в городской управе. А может, наоборот, никаких документов? А может, останови его сейчас патруль – прямо отсюда пойдет он на новые муки? Кто знает!..
Наверно, просто потому, что очень уж примелькалась в городе серая шинель, не обратил на себя внимание и маленький худощавый человек лет тридцати пяти, по виду – бывший военнопленный, явно без дела разгуливавший по улицам в эти морозные февральские дни – последние дни зимы 1942 года.
Он шел, присматриваясь к прохожим, вглядываясь в лица таких же, как сам он, усталых и голодных людей в обносившейся полувоенной-полуштатской одежде, среди которых были, конечно, его товарищи и единомышленники. Если б можно было читать мысли, многие из них наверняка остановились бы, и он протянул бы им руку.
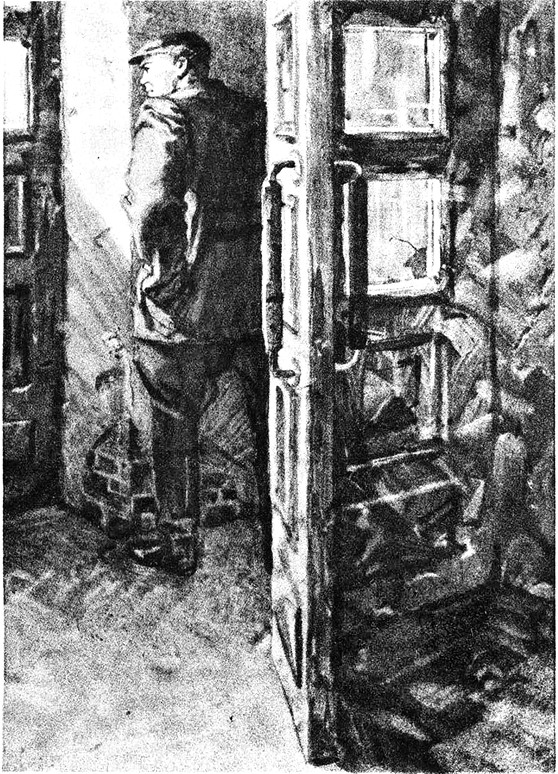
Кто ты, товарищ, идущий мимо? Что привело тебя в этот город? Как думаешь дальше жить?
Он протянул бы руку и назвал свое имя. Его зовут Трофим Корнеевич Квитко. Он коммунист, партийный работник. Воевал под Киевом. Семь суток батальоны, истекая кровью, сдерживали там натиск неприятеля. А дальше – окружение, дальше – цепкие руки вражеских солдат, гитлеровец, стаскивающий с пленного сапоги, – и колючая проволока в два человеческих роста. Дальше – холод и истощение, и мучительное бессилие, когда на твоих глазах умирают товарищи, а ты стоишь, стиснув зубы, стоишь, и ждешь своей очереди, и точно знаешь, что побег немыслим. Дальше – улицы родного Киева, Крещатик, толпы горожан спозаранку на Керосинной улице, перед бараками, где разместили военнопленных, – тысячи людей, пришедших сюда в надежде увидеть своих близких.
И – нежданное избавление. Гитлеровское командование освобождает, отпускает по домам военнопленных украинцев из оккупированных областей!
Кого могла обмануть эта «милость» оккупантов?! Людей отпускали по домам с условием, что они немедленно явятся в комендатуру по месту жительства и, получив направление, начнут работать на пользу германской армии. Это была очень выгодная «милость». И не только экономически. Тут крылся и другой расчет: украинское население противопоставлялось русскому, ставилось как бы в особые, более благоприятные условия. Типичная провокация, типичная для гитлеризма ставка на подрыв дружбы и доверия между народами!
Что ж, схитрим и мы. Воспользуемся вашим маневром. Воспользуемся справкой, удостоверяющей, что военнопленный украинец Самсонов из города Остер Черниговской области освобожден из лагеря и отправляется по месту жительства.
Почему Самсонов? А это его новая фамилия. На брезентовой сумке от противогаза, которую он носил в лагере, чернильным карандашом было выведено: «Самсонов», и кто-то из товарищей, взглянув на эту надпись, заметил, что она может быть неплохим документом. В последний момент так оно и случилось.
На оборотной стороне справки указано, что освобожденный из лагеря обязан, во-первых, немедленно поступить на работу по месту жительства, во-вторых, не имеет права появляться в лесах и на полотне железной дороги. Но это уже детали. Поживем – увидим, где нам лучше поступить на работу!
…И снова путь. Из хутора в хутор, из села в село. Он вырвался из лагеря, он свободен, но на что ему свобода, если вокруг поруганная и разграбленная родная земля, где-то на востоке бьются с врагом его товарищи, а он, коммунист, обречен на бездействие вдали от фронта, вдали от войны!
Несколько раз по ночам он наблюдает далекие зарницы взрывов. В селах то и дело приходится слышать о партизанах. Но все поиски тщетны. Как осторожно он ни выспрашивает крестьян, как ни присматривается в лесах к еле приметным, нехоженым тропинкам, найти партизан не удается.
Так проходит месяц, другой, третий… Старенькие латаные сапоги грозят вот-вот развалиться. Наступают морозы. Идти дальше становится все труднее. И вот, наконец, удача. На окраине села у станции Попелья хозяин квартиры, семидесятилетний старик, после долгого разговора признается: он знает, где партизаны.
– Не торопись, сынок, – унимает он взволнованного ночлежника. – Поживи денек-другой, отдохни. Может, за это время они и сами наведаются. Что-то уж целую неделю не показывались…
Нет, сейчас же, немедленно, не теряя ни минуты!
Тяжело идти по сугробам. Они вышли вечером, но только под утро пришли в лес, до которого, казалось, рукой подать. В лесу даже старик-провожатый зашагал бодрее, чувствуя приближение цели. Но увы, там, где, по его расчетам, должны были находиться партизаны, остались лишь обгоревшие, полуразрушенные шалаши, обвалившиеся землянки. Кругом валялись стреляные гильзы от автоматов и винтовок. Местами на снегу виднелись пятна крови, на деревьях – царапины от пуль. Все говорило о том, что недавно здесь шел бой.
Старик ушел, а Квитко еще целые сутки продолжал розыски по следам, которые, казалось, не могут не привести в конце концов к новому пристанищу партизан. Но следы расходились по нескольким направлениям: некоторые из них неожиданно обрывались, другие приводили опять к тому же, исходному месту. Это продолжалось до тех пор, пока разыгравшаяся метель не замела все следы.
Винница была последней надеждой. Казалось, уже нет сил идти дальше. Да и куда идти?..
Здесь, в Виннице, по крайней мере есть хоть небольшой шанс встретить кого-то из знакомых: до войны он не раз приезжал сюда по делам службы.
Город показался Квитко вымершим – так тихо было на его заметенных снегом улицах. Не дымили сиротливо торчавшие заводские трубы, деревья вытягивали на морозном обжигающем ветру окоченевшие ветви.
Наступали сумерки, а он все бродил по улицам, ища пристанища. Самый безопасный ночлег можно было найти где-то в заброшенном сарае, в разрушенном доме, и Квитко тщательно обследовал такие места. Наконец, ему повезло: в одном из дворов на улице Котляревского он обнаружил подходящий подвал – совершенно пустой, довольно чистый и, главное, с ворохом соломы у самого входа. Задвинув дверь тяжелым чурбаком, он навалил соломы в угол, улегся на ней и впервые с облегчением вытянул отекшие ноги.
В эту ночь он окончательно решил остаться в Виннице.
С утра улицы города стали оживленнее, хотя самих жителей было немного. Группами по пять-шесть человек ходили гитлеровские офицеры и солдаты; время от времени по мостовой с шумом проносились автомашины. Какая-то неизвестная, чужая и тревожная жизнь таилась за стенами домов; на улицу, казалось, выплескиваются лишь малые частицы этой жизни, отголоски, по которым ровно ничего нельзя было угадать.
Есть ли в Виннице подполье? Чем больше думал Квитко над этим вопросом, тем увереннее отвечал себе: да, есть, не может не быть! И хотя улицы не хранили никаких примет, никаких следов той тайной, подпольной жизни города, которая ему мерещилась, первая же прогулка наполнила его новой надеждой. Он не сразу отважился выйти днем из своего убежища; для этого потребовалось внутреннее усилие, нужно было сказать себе: «До каких же пор я буду бояться ходить по родной земле!» Сжав губы, глубоко засунув в карманы коченеющие руки, он двинулся по улицам. Он ходил час, и два, и три, борясь сначала с ощущением одиночества и страхом, а потом с чувством голода, вызывавшим уже слабость в ногах и тошноту. Навстречу попадались гестаповские офицеры, патрули из солдат, полицейские, и Квитко казалось, что все они с какой-то особой, подозрительной пристальностью смотрят на него. Но, странное дело, стоило отвлечься от этой мысли, освободиться от напряжения, как он сразу же переставал чувствовать на себе их взгляды. «Эге, а это, оказывается, я их прощупываю глазами, а не они меня», – подумал он с веселым облегчением.
Так что же, товарищи в серых шинелях, долго нам с вами так вот ходить рядом, не смея открыться друг другу? Долго нам пребывать в бездействии, нам, коммунистам, нам, советским людям? У нас хотят отнять самое дорогое. Что мы – без Родины, что мы – без партии? Вспомните свою жизнь и ответьте!..
Он вспоминал свою жизнь год за годом. Стройку, где он, десятилетний парнишка, сын глиномеса, носил кирпичи. Школу, куда он впервые пришел двенадцати лет. Марганцевые рудники Криворожья. Рабфак, институт, откуда он вышел специалистом-историком. Год назад – да, это было как раз прошлой зимой в феврале, – кафедра утвердила тему его диссертации. «Надо взять долгосрочный отпуск, – решил он, – иначе не управлюсь…»
Он любил свою работу партийного пропагандиста, любил и, казалось, умел выступать перед людьми. Но какими вялыми, сухими, абстрактными представлялись теперь все его речи. Разве он умел говорить о патриотизме? Разве сам он понимал до конца, что такое для советского человека его Родина? Это мало понимать – это надо ощущать физически. Это – как биение сердца, без которого нет тебя. Это боль, которая живет в тебе день и ночь, не успокаиваясь и не отступая. Ты должен бороться – без этого незачем жить.
На другой день он снова отправился в свое путешествие, на третий день – снова и, вероятно, так и ходил бы до тех пор, пока не свалился бы от истощения. Он знал, он предчувствовал, что встретит желанного знакомого; всем своим существом он верил в эту случайную встречу.
Он верил и ждал этого, и все же, когда на углу улиц Днепровской и Коцюбинского его окликнул женский голос, он подумал: «Ну, теперь держись. Есть и такие, что за десять марок продадут коммуниста».
И он, так долго и настойчиво искавший встреч, что помогут ему выйти на путь борьбы, решил идти, не оглядываясь на окрик, не ускоряя и не замедляя шага. Но сзади уже догоняли торопливые, звонко постукивающие по обледенелой мостовой шаги.
– Трофим Корнеевич!
Дальше притворяться было бессмысленно. Квитко остановился. Перед ним стояла незнакомая женщина, закутанная в шаль, в летнем потрепанном пальто, с кошелкой, в которой лежали морковь и свекла.
– Не узнаете?
– Нет.
Лицо у женщины было изможденное, усталое. Она, видимо, изрядно замерзла в своем летнем пальтишке, тонкие губы ее были бледны, бескровны.
– Как же, товарищ Самсонов? Ведь не так давно вы были у нас в Киеве.
Квитко стал припоминать. Действительно, после освобождения из лагеря ему довелось переночевать в Киеве на одной квартире, куда он пришел с запиской товарища по лагерю. Там гостила тогда подруга хозяйки – Ольга Таганская, бывшая артистка Киевской оперетты.
Прошло не так много времени, но в стоявшей перед ним изможденной женщине трудно было узнать Ольгу.
– Что, изменилась? – улыбнулась она.
– Да, пожалуй…
Мимо прошел гитлеровский солдат в напяленной на уши пилотке, с поднятым воротником. Он внимательно оглядел их обоих.
– Пойдемте, – предложил Квитко, – не будем нарушать «новых порядков».
Ольга недовольно сдвинула брови:
– Будь они прокляты!
Но все-таки пошла следом за Квитко. «Зачем она здесь? Что это за “гастроли” по оккупированным городам?» – беспокойно думал он.
А Таганская продолжала говорить срывающимся шепотом:
– Когда все это кончится?.. Тысячи расстрелянных, умерших от голода… Это какой-то страшный сон… Мерзавцы!.. Вы видели, во что они превратили Киев?
– Видел… Что вы делаете в Виннице?
– У меня в Киеве родные. Этой осенью мы чуть не умерли с голоду. Слышали, что в Виннице полегче с продуктами. Я и решила рискнуть. Достала разрешение в немецкой комендатуре. Но и тут не лучше. Везде этот ужас. А что вы здесь делаете?
– Работаю в школе учителем, – неожиданно для себя ответил Квитко.
– У немцев?
– Советских школ, как вы знаете, в Виннице сейчас нет.
– Значит, воспитываете украинских детей в почтении к «новому порядку»?
Лицо Таганской заострилось. Квитко увидел в ее глазах нескрываемую неприязнь. Он почувствовал, что перегнул. У женщины наверняка есть знакомые в Виннице. Было бы неплохо познакомиться с ними, на первых порах хотя бы под видом учителя.
Он осторожно взял ее за руку.
– Вы извините, у меня не очень хорошая память на имена. Кроме того, виделись мы с вами всего один раз. Вас, по-моему, зовут Ольга Таганская. Да? Так вот, Оля, разрешите дать вам один совет. Не надо так громко разговаривать на улицах.
– А вы-то чего боитесь? – она резко отняла руку. – Интересно, на что они все рассчитывают, эти поступившие в услужение к фашистам? Что Красная Армия уже разбита, что ей уже никогда не вернуться сюда?.. Нет, не выйдет по-вашему! Врет она все, немецкая пропаганда. Москва наша…
– Вы слушаете радио? – быстро спросил Квитко.
Таганская вздрогнула. Лицо ее побледнело. Видно было, что она только сейчас поняла, насколько была неосмотрительна, затеяв этот разговор. Прошло несколько секунд, прежде чем она сумела взять себя в руки. Поджав тонкие бескровные губы, она сказала:
– Вон на той стороне офицер. Вы можете подойти к нему и сказать: «Эта женщина слушает по ночам передачи из Москвы». Может, они вам дадут за это полсотни марок. Но имейте в виду: от меня они ничего не добьются.
Сомнений уже не оставалось: и этот испуг Таганской, и это решительное выражение ее побледневшего лица – все было искренним.
Квитко подождал, пока офицер пройдет мимо, потом спросил:
– Что вы знаете обо мне, Оля?
Таганская ответила не сразу. Некоторое время она шла молча, кутая лицо в старенькую шаль. Заговорила тихо и немного устало:
– Знаю со слов подруги, что вы были коммунистом, работали в руководящих органах…
– А теперь работаю у немцев учителем. По-разному у людей складываются судьбы. Я не провокатор, Оля. Но вы зря все так скоро выболтали… Короче, – сказал он, глядя на нее в упор, – вы дожны свести меня с людьми, с которыми вы слушаете радио.
Таганская не ответила.
– Вы, наверно, поймете меня, Оля, – продолжал Квитко. – Мне сейчас просто необходимо послушать Москву. Ну, как бы это сказать, – для души, что ли. Просто необходимо… Меня ведь все-таки изрядно потрепало.
– Вид у вас действительно… – покачала головой Таганская. – Неужели они и пайка вам не дают за вашу службу?
Квитко развел руками, оглядел свое донельзя заношенное, с продранными карманами пальто, посмотрел на перевязанные веревкой сапоги.
В словах Таганской сквозила ирония, но взгляд ее уже заметно смягчился. Теперь в нем было если не доверие, то по крайней мере сострадание.
– А вам известно, что делают с теми, кто слушает Москву? – спросила она, и что-то обнадеживающее почудилось Квитко в этих словах.
Он усмехнулся.
– Известно.
– И не страшно? – продолжала она уже, кажется, совсем без неприязни.
– Знаете, что, – нетерпеливо сказал Квитко, – не будем терять время. Незачем без толку торчать на улице. Давайте договоримся: завтра в пять вечера я жду вас на этом месте. – И видя, что она все еще колеблется, добавил: – Не отвечайте сейчас, до завтра у вас есть время подумать. Я уверен, что вы подумаете и придете… Да, если не жалко, дайте мне несколько морковок… для одного больного ученика.
Разошлись они, не прощаясь. Квитко свернул в первый же глухой переулок. Сердце учащенно билось: наконец-то! Если даже там нет никакой подпольной группы, то хоть есть приемник и есть горстка людей, которые не боятся слушать Москву.
Месяцы бесплодных скитаний научили Квитко трезвее относиться к собственным надеждам, не обольщаться ими, всегда рассчитывать на худшее. Но теперь эта трудная, выстраданная мудрость уже потеряла свою власть над ним. Он ВЕРИЛ. И главное – знал уже, что делать, если путь к подполью все же не будет найден.
Тогда он сам соберет и организует вокруг себя единомышленников-патриотов!
С этим решением он и шел на следующий день к месту встречи с Таганской.
Накануне, с немалым риском для себя, он сходил в парикмахерскую, побрился. Придирчиво осмотрел себя в зеркало: вид все-таки подозрительный…
Дорогой его не покидало волнение: вдруг Таганская не придет? Он обрадовался, еще издали увидев ее невысокую фигурку в пальто и шали. Обрадовался и в то же время подумал: «А все-таки она очень неосторожна. Ведь она меня так мало знает».
Они пошли молча. На Ленинградской, у двухэтажного кирпичного дома, Таганская остановилась. Только теперь, уже в подъезде, Квитко спросил:
– А кто они, эти ваши знакомые?
– Они мои родственники. Семья. Хозяин – старый кадровый рабочий.
Дверь им открыла маленькая полная женщина в очках с железной оправой. Она молча провела их через темную переднюю и только в комнате ответила на приветствие Таганской. Ольга казалась немного смущенной. Разматывая шарф с головы, она сказала:
– Тетя Катя, это и есть тот самый киевлянин.
Видимо, о его приходе было уже договорено.
Женщина пытливо оглядела гостя сквозь мутноватые стекла очков, протянула жесткую ладонь:
– Крыжевая, Екатерина Васильевна.
Что-то подкупающее было в ее сдержанности, в суровом, но прямом взгляде серых глаз.
Пока Квитко снимал пальто, из соседней комнаты вышел паренек в синей спецовке. На вид ему было не более двадцати лет. Он тоже, протягивая гостю руку, смотрел на него внимательно и не очень приветливо. Не по летам суровым казался весь его облик: совсем еще мальчишеское лицо с пухлыми обветренными губами, с черными, блестящими, аккуратно расчесанными на пробор волосами.
– Борис Крыжевой.
Как и мать, он сразу располагал к себе. «Хороший парнишка! Ему бы сейчас учиться да на лыжах ходить», – подумал Квитко.
Сели за стол: Квитко, напротив него – Таганская, слева на угол сел Борис. Екатерина Васильевна продолжала возиться в стороне.
Наступило неловкое молчание. Борис хмуро рассматривал свои кулаки. Ольга, видно от смущения, все время поправляла волосы. Теперь, без платка, она казалась значительно моложе.
Квитко улыбнулся:
– Вы не сердитесь на меня, что я вторгся к вам незваным гостем. Трудная вещь одиночество, да еще в такое время. В Виннице я человек новый.
– Чего там, – отозвалась из своего угла Екатерина Васильевна, – зашли и – ладно. Добрым гостям всегда рады.
Опять наступило молчание. Квитко напряженно думал: что же сказала о нем этим людям Ольга? Сказала, что он бывший коммунист, а теперь работает у немцев учителем? Пожалуй, последнее пока опровергать не стоит. Но в общем разговор надо вести в открытую. Только как быть с фамилией? Что ж, очевидно, нужно оставаться Самсоновым.