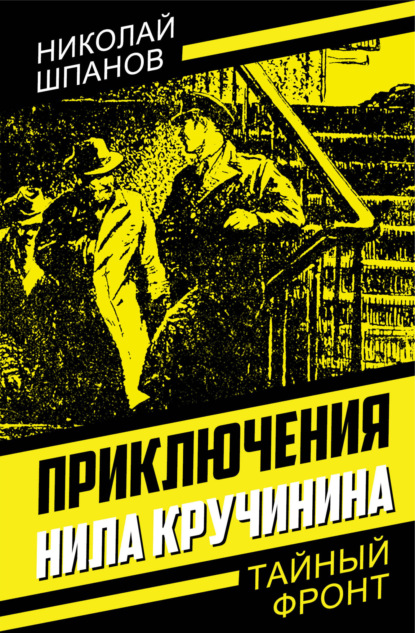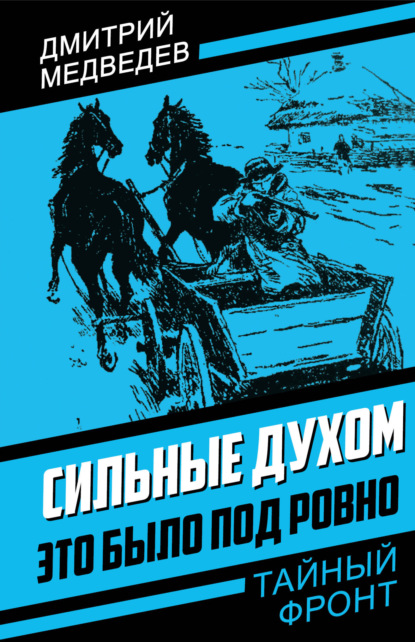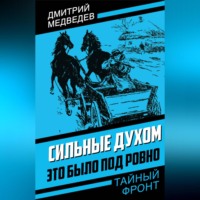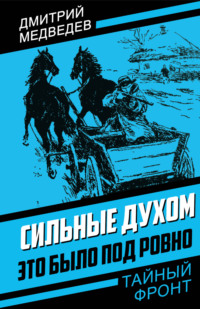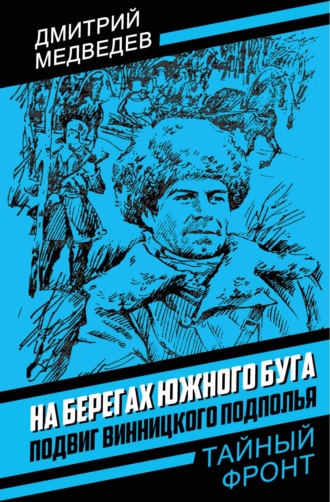
Полная версия
На берегах Южного Буга. Подвиг винницкого подполья
У Ляли потемнело в глазах; она безотчетно рванулась, но тут же чья-то рука властно легла ей сзади на плечо.
– Спокойно! – услышала она громкий шепот. Она обернулась и увидела наклонившееся к ней незнакомое, заросшее щетиной лицо, такое же темное, как и все лица вокруг. – Спокойно, – повторил незнакомец, и рука его больно сжала ей плечо.
Раздетых пленных отвели в сторону, к лагерному заграждению, дали им в руки лопаты и заставили рыть яму.
Раздалась новая команда: всем пленным сесть. Затем конвоиры подошли к жертвам и стали по одному подводить к офицеру. Тот поворачивал обреченного лицом к яме и, выстрелив из револьвера в затылок, ногой сбрасывал тело вниз.
Ляля сидела в оцепенении, не в силах шевельнуться. Руки, ноги, шея – все вдруг одеревенело, что-то твердое сдавило грудь и начало ползти вверх, подступая к горлу тошнотой. Она почувствовала, что падает, и снова сильные руки человека, сидящего сзади, пришли ей на помощь.
– Ну, спокойно, – вновь услышала она, теперь уж у самого уха.
Она вздрогнула, схватилась за руку, лежавшую у нее на плече, и заставила себя поднять глаза на офицера: тот аккуратно вкладывал пистолет в кобуру. Женщины с мальчиком уже не было рядом с ним. Не было никого, кроме конвоиров.
Застегнув кобуру, офицер назидательно обратился к пленным:
– Вам давно надо было так поступить с коммунистами. Тогда у вас был бы порядок.
И закончил бесстрастным голосом:
– До утра никто не должен подниматься с места. За нарушение приказа – расстрел на месте.
Теперь все знали: это не пустая угроза.
Эту ночь Ляля провела в забытьи. Утром, сначала в полусне, а затем и наяву, перед ней возникла фигура вчерашнего незнакомца, и сильная большая ладонь все так же властно и успокаивающе легла ей на плечо.
– Ну? – спросил незнакомец и присел на корточки рядом с ней, ожидая ответа. – Что делать будем? – пояснил он наконец свой вопрос.
В его светло-карих глазах была какая-то неуместная, даже обидная ирония.
– Кто вы такой? – спросила Ляля.
– Я комиссар артиллерийского полка.
Теперь глаза его были серьезны и печальны.
– Откровенно! – заметила Ляля.
– Откровенно, – согласился комиссар. – Но ведь тебе можно верить?
– Я комсомолка, – сказала Ляля.
– Вижу, – сказал комиссар. – Что ж делать-то будем? Умирать вроде не хочется.
– А вы знаете, как бежать отсюда?
– Знаю.
Ляля вскочила от неожиданности.
– Спокойно, – сказал комиссар. – На марше, когда поведут на работу, держись поближе ко мне. Будь рядом. И следи. Поняла?
– Поняла.
– Только ведь гарантий никаких. Риск. Может, выйдет, может, нет, – продолжал комиссар, увидев, наверно, слишком много воодушевления и надежды на ее лице. – Ты представляешь себе, что нас ждет, если?..
– Все равно, – сказала Ляля.
– Все равно? – переспросил комиссар. – Ну хорошо, а дальше? Вот ты убежала, вот спряталась где-то в деревне у крестьян. А дальше?
Он ждал ответа.
– Не знаю, – призналась Ляля. – Надо будет, наверно, пробираться через линию фронта к нашим.
– К нашим… – повторил комиссар. – Через линию фронта… Ну, а если это уже невозможно?.. Ты откуда родом-то? Москвичка?
– Училась в Москве, а родом из Винницы.
– Там родные?
– Мать.
– Слушай, – он снова взял ее за плечо. – Если все будет хорошо, иди на юго-запад, на Украину, пробирайся к своей Виннице; либо там, либо по дороге ты найдешь себе дело. Война не только на фронте, война – всюду. Ты меня поняла? А если поняла, то не говори: все равно. Будем стараться не погибнуть.
– Будем стараться, – повторила Ляля.
Спустя полчаса или час они уже шли рядом в колонне пленных. Очевидно, не только с ней договорился комиссар о побеге: двое людей, шедших впереди, время от времени оглядывались на него, и Ляля догадалась, что они тоже ждут сигнала. Когда колонна оказалась в лесу, она не выдержала и несколько раз толкнула его локтем: были моменты, когда солдат, шедший сбоку, уходил далеко вперед, можно было юркнуть в кусты, и тот охранник, что замыкал колонну, почти наверняка не заметил бы этого, – но комиссар продолжал идти невозмутимо, даже не отвечая ей на все эти знаки. Колонна миновала лес, вышла в поле, и Ляля поняла, что случай упущен; оставалось ждать следующего.
На обратном пути после работы повторилась та же история. Вечером Ляля разыскала комиссара, но он сидел в окружении пленных, и поговорить не удалось.
Она уже отчаялась в задуманном, уже начали приходить в голову мысли о том, что, в сущности, ей совершенно неизвестен человек, назвавший себя комиссаром, и что это было неосторожностью, безрассудством – вести с ним откровенный разговор. Когда на другой день при построении колонны он нашел ее глазами и указал место рядом с собой, она уже не испытывала вчерашнего подъема. Но теперь сам комиссар был настроен по-другому. Впереди него стали те же самые люди, что и накануне, и он познакомил Лялю с ними. Это знакомство было формальным, потому что фамилий их она не расслышала, – да и что могли сказать фамилии, – и все же сознание, что все четверо связаны чем-то, прибавило ей силы и веры.
Когда колонна тронулась в путь, комиссар вдруг озорно подмигнул ей и сжал ее руку, словно хотел сказать: «Не робей, не вешай голову». В лесу он повторил то же движение, но теперь оно, кажется, значило что-то другое. Ляля оглянулась на охранника и в ту же секунду скорее почувствовала, чем увидела, как шмыгнул в сторону, в кусты, комиссар. Еще один из шедших впереди кинулся вслед за ним; другой замешкался, не успел; тут же раздались выстрелы, и Ляля поняла, что опоздала. Колонна вдруг резко остановилась, на какое-то мгновение люди стали как вкопанные. И вдруг началось беспорядочное движение, суматоха: передние бросились вперед, конвоиры устремились за ними; тем временем из задних рядов люди стали разбегаться по сторонам; кто-то сильным ударом повалил охранника, все еще стрелявшего вслед комиссару… Недолго думая, Ляля рванулась туда же, в кусты.
Она бежала и шла, ползла и снова бежала – до тех пор, пока вокруг нее не наступила тишина. Трудно было понять, она ли ушла так далеко или сами по себе стихли выстрелы и голоса, только в этой тишине она вдруг почувствовала себя недосягаемой для преследователей. Это была свобода.
Впрочем, едва ли конвоиры погнались за беглецами – тогда наверняка разбежалась бы вся колонна. А может, так оно и случилось? Может, охрана давно уже разоружена или перебита, а пленные разбрелись по лесу?..
Как обидно, что она не успела убежать вместе с комиссаром! Теперь он, наверно, уже далеко, и вряд ли она его когда-нибудь увидит. Как его звали? Не то Николай Павлович, не то Павел Петрович, и как это она не запомнила! А фамилии даже и не спросила…
Идти становилось все труднее: подошва левой ноги была растерта до крови. Интересно, велик ли этот лес?.. Так или иначе, лучше выбраться отсюда поскорее. Как только в лагере узнают о случившемся, в погоню будет послан целый отряд жандармов, не иначе. Они придут сюда с собаками, они прочешут весь лес автоматными очередями.
Надо торопиться!
Страх, ужас, которого она прежде, кажется, и не знала, вдруг захлестнул, обдал ее невыносимым жаром и заставил побежать. Она бежала, уже не чувствуя боли в ноге, обдирая лицо, руки, ноги о колючий кустарник, бежала до тех пор, пока не увидела сквозь поредевшие ряды деревьев серо-голубое пространство с тусклыми красками заката: лес кончался, впереди расстилалось поле.
Под ногами скользкая грязь. Каждый метр дается с трудом. Скорей бы ночь, скорей бы остановиться! Кругом никаких признаков жилья, ничего, кроме серого неба и темной, грязной, клейкой земли.
Вдруг руки проваливаются. Яма. Не успев задержаться, она соскальзывает туда всем телом. Это, должно быть, старый окоп. Дальше ползти нет сил.
Но как тут холодно, как быстро замерзают руки и ноги! Нельзя сидеть без движения, надо идти, идти…
Нет, уж лучше переждать до утра. В открытом окопе слишком холодно, да и рискованно, а вот если вырыть нишу и спрятаться в нее… Обшарив окоп, Ляля нашла осколок бутылки. Не давая себе ни минуты отдыха, принялась за дело.
Трудно рыть вязкую глину осколком стекла. Кружится голова от голода и усталости; кажется, еще секунда – и не станет сил. Но еще и еще, еще и еще, и вот уже израненные, деревенеющие руки ушли в нишу по самые локти, дальше. Вот она сама уже влезла сюда по пояс. Хорошо! Еще и еще – так, чтобы можно было поместиться всем телом, хотя бы согнувшись, но поместиться.
А ведь уже светло. Неужели прошла ночь?..
Ляля забирается в нишу, примеривается, пробует устроиться поудобней и вдруг чувствует, что больше двигаться не в силах. Она пытается высвободить неудобно согнутую руку, но рука не шевелится; делает усилие приподняться, но не может совладать с собственной тяжестью. Тогда она понимает, что это пришел сон, и уже перестает сопротивляться.
В родном городе
Спустя шесть месяцев после того коротенького письма из Москвы, за которым уже не последовало, да и не могло последовать никаких известий, спустя шесть месяцев, в течение которых Наталия Степановна Ратушная привыкала к тупому, почти бессознательному существованию человека, лишенного всех надежд, в суровый январский день 1942 года, не суливший, казалось, никаких перемен, Ляля нежданно-негаданно появилась на пороге родного дома.
В этот день, как и накануне, Наталия Степановна и ее сестра Надежда Степановна отбывали трудовую повинность: в числе сотен жителей их мобилизовали на расчистку Литинского шоссе, идущего на запад. Снежные заносы мешали движению, и ежедневно чуть свет гитлеровские власти гнали сюда толпы горожан, молодых и стариков, раздавали им лопаты и заставляли работать до самой темноты. Благо, дни пошли короткие, смеркалось рано, и к пяти часам уже удавалось вернуться домой.
Но что ждало Наталию Степановну дома? В квартире холодно и темно. Дров нет. Нет и света. Да и к чему свет? Готовиться к урокам незачем – школа закрыта. А что холодно – это, пожалуй, даже хорошо: по крайней мере немца не вселят.
Так и коротали сестры вдвоем эти бесконечные зимние вечера: лежали, укрывшись всем, чем только могли, и вспоминали, вспоминали… Иногда приходил кто-либо из соседей, обычно с новостями, но и новости были одна хуже другой. Тот схвачен и расстрелян, те отправлены в лагерь, того видели в компании с немцами – говорят, поступил на службу в полицию, а ведь казался честным человеком… Рассказывали об огромных лагерях, где за колючей проволокой медленно умирают тысячи людей. Никто не мог быть уверен, что его не ждет та же участь. Для этого достаточно было любого ничтожного повода: доноса о том, что участвовал в общественной работе, или членского билета Осоавиахима, найденного при обыске, неосторожного слова или непонравившегося взгляда. Похоже было, что гитлеровцы методически осуществляют какой-то единый, продуманный план постепенного истребления советских людей.
Но самое горькое было даже не это. Седьмого ноября, в день праздника, фашистская газета, выходившая на украинском языке, – «Вiнницькi Вiстi» – огромными буквами возвестила о падении Москвы. «Оплот большевизма сокрушен, доблестные войска фюрера вступили в Москву!» – кричали со всех заборов плакаты. Ни один советский человек не хотел этому верить. Из уст в уста передавалась молва о напряженных боях у стен столицы, об огромных потерях, которые несет там гитлеровская армия. На следующее утро, восьмого, в нескольких местах появились листовки, наклеенные прямо на плакаты и содержавшие краткий и красноречивый ответ: «Врете! Москва наша!» – и об этом сразу узнал весь город. Но проходили дни, не принося никаких новых известий и никаких надежд, никаких признаков, ослабления «нового порядка»; напротив, он утверждался здесь все более прочно и основательно, это было видно по всему, и от этого можно было прийти в отчаяние.
В один из таких безрадостных дней в тихом домике на Пушкинской улице, в просторной и холодной комнате раздался звонкий голос Ляли. Наталия Степановна узнала его сразу же, как только вошла в сени. «Прочь, тоска, прочь, печаль, я гляжу смело вдаль», – беззаботно, как встарь, пел этот голос. Глупая, легкомысленная песенка, которую Наталия Степановна прежде так не любила! Сердце ее дрогнуло, она бросилась в комнату и упала в объятия дочери.
В стареньком порыжевшем платье, в разбитых бурках из шинельного сукна, исхудавшая, почерневшая, неожиданно взрослая Ляля стояла перед Наталией Степановной, и это взрослость без слов говорила обо всем.
– Ну, полно, полно, – бормотала Ляля, прижимаясь лицом к мокрым щекам матери. – Все хорошо, теперь мы вместе. Не надо плакать.
В ее глазах не было ни слезинки, лицо казалось спокойным, она обращалась с матерью, как старшая, терпеливо повторяя слова утешения. Кое-как ей удалось успокоить мать, но тут появилась Надежда Степановна. Она остановилась в дверях, не в силах переступить порог от волнения, и, увидев это, Наталия Степановна снова залилась слезами.
…В этот вечер, впервые за долгое время, в домике Ратушных горел свет – маленькая самодельная коптилка, от которой как-то сразу стало теплее и легче на душе. Ляля болтала без умолку; закрыв глаза, Наталия Степановна слушала ее голос, слушала, как музыку, наслаждаясь самим звучанием этого голоса, ничуть не изменившегося с тех далеких и счастливых времен.
Как-то уж очень просто и легко выглядела в изложении Ляли история ее пребывания в плену, бегства из плена и двухмесячного пешего пути в Винницу. Она как будто ничего не скрывала, рассказывая о тяготах и опасностях, но сами эти тяготы и опасности обрастали в ее рассказе веселыми и смешными подробностями, и видно было, что их она тоже не выдумала, а просто лучше запомнила в силу какого-то странного свойства своей памяти.
– Ну вот, значит, сбежала я из лагеря. Нашла какой-то окопчик прямо в поле, отсиживаюсь в нем, никак не могу решить, что лучше – днем идти или ночью. Днем как-то боязно – не знаешь, на кого нарвешься; лучше вечером. Наступает вечер – еще хуже: «Ну куда, – думаешь, – идти, на ночь глядя?..» Так и просидела бы, наверно, недельки две, а то и больше, но на второй день что-то уж очень кушать захотелось. Ничего не поделаешь, надо вылезать. Вылезла. Прихожу в деревню, стучусь в первую же хату. И что б вы думали, – не пускают. Я – во вторую, там то же самое. Что за черт! Времени часов семь утра, светло. «Чего, – думаю, – испугались?» Иду дальше, стучусь в третью. Нечаянно поглядела на себя в стекло, оно отсвечивает. Бог ты мой, что за образина! И неверующий испугается! Морда вся в грязи, в мазуте каком-то, лоб черный, нос черный, из телогрейки торчат какие-то хлопья, тоже черные. Все-таки впустили в третью-то. Хозяйка, добрая женщина, баньку затопила, поесть приготовила, даже какую-то старую одежонку вытащила. Сын у нее в Красной Армии, плачет-заливается: «Может, и мой Федюша так же вот…» Ну, проходит два дня, надо и честь знать, прощаюсь. Все-таки решила идти по ночам. Днем хуже… Вот так и шла от села к селу. Стучишься в крайнюю хату, узнаешь: если есть в деревне немцы – значит, дело швах, поворачивай; если нет – иди смело, не бойся.
Однажды все-таки не повезло. Это уже здесь, в наших краях. Являюсь в деревню, иду себе как ни в чем не бывало – когда человеку все время везет, он наглеет, вот так и со мной. Иду, ни о чем не думаю, а там их видимо-невидимо. Ну, сразу – цап-царап. Документов нет, пожалуйте в холодную. Что делать? Отправят в «гебит», в район то есть – это значит в лучшем случае в лагерь. Обидно стало: тысячу километров прошла – неужели все зря?.. Надо что-то предпринимать. Сунулась к двери, там немец сторожит. Стучу – открывает: «Что тебе?» – «Ничего, – говорю, – эссен давай, их виль эссен». И в самом деле проголодалась. Да к тому же интересно: как он себя поведет? И что бы вы думали? Не проходит и получаса, как тащит он мне целый кружок колбасы. Колбаса хорошая, домашняя, с чесноком. Откуда он ее взял? «Молодец, – думаю, – хороший парень, с этим можно договориться». Но вижу, делает он мне какие-то знаки непонятные, хочет чего-то. Я ему по-немецки: «Ты говори, говори, я пойму». Представьте себе, денег требует. Чтоб заплатила я ему за эту колбасу. Он мне ее, оказывается, продать собрался. «Нет, – говорю, – денег». А сама уже отломила кусок, уплетаю за обе щеки. Вы б видели его лицо: чуть не плачет. Мне его даже жалко стало. «На тебе, – говорю, – твое добро, возьми, не плачь». Взял, повертел с досадой, да как бросит оземь, как выскочит – и сразу дверь на засов… В углу моего сарая большой ящик стоит. Я – к этому ящику. Ощупала, чувствую: одна доска держится слабовато. Если оторвать, получится неплохой инструмент. Крыша-то соломенная!.. Дергаю доску – трещит. Да как трещит!.. Ну все, сейчас ворвется сюда мой немец – и прощай Винница. Нет, ничего, не врывается. Я опять – дерг! Оторвалась наконец… Теперь только бы ночь поскорей, только бы не тронули до ночи. Вечером является офицер – никакого допроса, ничего, только фамилию записал, год рождения и прочее и объявил, что утром поедем с ним в «гебит». Так я и думала. Теперь вся надежда на эту доску. Ночью забралась на ящик, в руке – доска, ну и разворотила ею крышу. Выбралась. Ночь холодная, звездная. «Немец-то мой, – думаю, – спит, наверно, колбасу свою во сне видит». Я ею, кстати, не побрезговала, слопала – будь здоров!.. Вот так и добралась, – закончила Ляля свой рассказ. – Думала, Новый год с вами встречу, а пришлось – под Киевом, – не успела…
О будущем разговора не было. Как, на каких правах жить Ляле в Виннице, где раздобыть документы, поступать ли на работу – об этом сегодня не хотелось думать. «Спать, спать! Утро вечера мудренее», – проворчала Наталия Степановна, когда Ляля попробовала заикнуться о своем устройстве.
Но спать в эту ночь было невозможно. Ляля слышала, как ворочаются и вздыхают мать и тетя, а им было слышно, наверно, что и она не спит. Мысли, обрывки воспоминаний, образы пережитого – все это неслось на нее лавиной, которую уже нельзя было остановить. Только теперь, как бы со стороны увидев все, что с нею произошло, поняла Ляля, как много повидала она уже на своем коротком веку.
Первые встречи
В середине января в Винницу просочились слухи о разгроме фашистских войск под Москвой. Вскоре об этом возвестили и листовки, появившиеся в разных концах города, и как бы в ответ на поражение своей армии гитлеровские власти объявили всеобщую «трудовую мобилизацию».
Наступило время, памятное жителям многих оккупированных городов. Тысячи людей, признанных трудоспособными, загонялись в товарные вагоны и отправлялись в Германию. Нескончаемые людские толпы осаждали вокзал. Тут были отцы и матери, разлучаемые с детьми, жены, разлучаемые с мужьями, дети, у которых отнимали родителей. Люди отправлялись в рабство, они это знали. Отныне у них не было будущего, не было ни семьи, ни имени – ничего…
Жить, не числясь на работе, с каждым днем становилось все труднее. Начались облавы. И Ляле Ратушной пришлось серьезно задуматься над тем, как бы прочнее обосноваться в городе.
Версия о том, будто она бежала сюда из-под Москвы, где вместе с группой студентов, рывших окопы, попала в окружение, показалась в городской управе правдоподобной, и ей сравнительно легко выдали паспорт. Но паспорт не освобождал от угона в Германию.
Сидеть сложа руки и ждать, когда тебя схватят на улице или вытащат ночью из постели и бросят в теплушку? Нет, это не в ее характере! Надо устраиваться на любую работу, которая освобождала бы от угона в Германию, устраиваться и искать своих людей, искать подполье.
Первый, кто вспомнился Ляле при этой мысли, был Николай Фомич Кулягин, отец Володи. Вспомнились долгие вечера, когда они, тесный кружок школьных друзей, с волнением слушали рассказы Николая Фомича, старого большевика, о подполье времен царизма, о гражданской войне – слушали и завидовали.
Как давно это было!.. И где сейчас Володя, где все другие?.. Где сам Николай Фомич?..
На прежнем месте, как и следовало ожидать, Кулягиных не оказалось. Их квартира была занята каким-то гитлеровским офицером. Куда они переехали и остались ли вообще в Виннице, никто из соседей не знал. После долгих розысков, с помощью общих знакомых, Ляле все же удалось установить новый адрес Николая Фомича. Кулагин здесь, в Виннице!
Его трудно было узнать. То ли густая седая борода, которой прежде не было, то ли стариковская суетливость, пришедшая на смену прежней неугомонной горячности, столь знакомой всем, кто знал Николая Фомича, – что-то удивительно изменило его. Даже в том, как встретил он Лялю – радостно, но в то же время и слишком сдержанно для него, – было что-то новое, непонятное и грустное. О Володе, конечно, никаких известий; последнее письмо датировано 18 июня. За два дня до появления немцев в Виннице Николай Фомич с женой и девятилетней дочуркой попытались эвакуироваться – уселись на подводу, уложили свой скромный скарб и двинулись на восток. Не успели добраться до Днепра, как выяснилось, что гитлеровцы их опередили. Пришлось возвращаться. На старую квартиру заехать уже не решились, так как все кругом знали, что Кулягин – коммунист и что сын у него в Красной Армии. После долгих мытарств удалось снять вот эту комнатушку на окраине: шесть квадратных метров, полуподвал.
Чем он сейчас занимается? Конечно же, не прежним своим делом. Он работал в Винницком сахаротресте, был директором свеклобазы, теперь он сапожник. Да, это его вывеска при входе: «Сапожник здесь». Так оно спокойней…
– Так ведь это ж маскировка, конспирация! – не удержалась Ляля. – И эта вывеска, и борода!
Воображение уже рисовало ей захватывающе радостную и тревожную жизнь подполья: явки, пароли, типография, скрытая где-то в подвале, склад оружия, и над всем этим безобидная корявая вывеска с нарисованным сапогом.
Кулягин ничего не ответил на это. Он спросил, давно ли Ляля в Виннице и видела ли она, во что превратился город, сколько разрушено. Тут он впервые заговорил горячо, как прежде. Он любил Винницу страстной любовью старожила.
«Прощупывает, – сразу же решила Ляля. – Не уверен во мне», – подумала она скорее с удовлетворением, чем с обидой. Теперь у нее не было никаких сомнений в том, что и вывеска, и борода Кулягина таят в себе глубокий тайный смысл.
И, улучив момент, она прямо попросила:
– Свяжите меня с ними, Николай Фомич!
– Я верю тебе, – сказал Кулагин, – и говорю серьезно: я пока ни с кем не связан и не знаю, с какого конца взяться за это дело.
– А вывеска?!
Старик ответил не сразу. Ляле показалось, что он смутился, уловив разочарование в этих ее невольно вырвавшихся словах.
– Пойми, дочка, – сказал он наконец, – душа болит, что приходится сидеть сложа руки. Но ведь ни мне, ни жене нельзя показываться в городе: нас тут каждая собака знает. Подполье то есть, не может не быть, но как к нему подступиться? Куда идти, с кем говорить?..
– А из наших ребят никто не заходил? – поинтересовалась Ляля.
– Кто ж меня здесь найдет!
– Значит, по-вашему, нет никакой надежды?
– Есть, – сказал Кулягин. – Будем искать вместе.
– Хорошо, – согласилась Ляля, вставая. – До свидания, Николай Фомич. Ждите меня, я к вам приду.
Это звучало как обещание. Это было не простое «приду», за ним слышалось: «приду с результатами», и, наверно, это прозвучало для Кулягина как-то наивно, потому что, прощаясь с ней, он не сумел скрыть улыбки. «Ну и что же, пускай», – решила про себя Ляля.
Отныне она стала усердно навещать всех знакомых, кого только могла разыскать в городе. Пусть самый маленький, пусть самый незначительный – след подполья должен обнаружиться! С этой неотвязной мыслью она жила, с ней она ходила по улицам, пытливо всматриваясь в лица прохожих. Вскоре ей повезло. Она встретила человека, которого хорошо знала и которому верила. Это был Игорь Войцеховский.
Их довоенное знакомство было недолгим: Игорь учился в восьмом классе, когда Ляля была в десятом, и в те годы она почти не знала его, потому что в школе старшие обычно мало интересуются младшими. Они познакомились тогда, когда Ляля уже окончила десятый класс и стала работать в школе пионервожатой. Как раз в то время Игоря Войцеховского избрали секретарем школьной комсомольской организации. Разница в возрасте мгновенно потеряла всякое значение; теперь уж скорее Ляля испытывала власть Игоря, сама всякий раз удивляясь этому. И дело было, конечно, не в «секретарской» власти, а в том глубоком всеподчиняющем влиянии, которое исходило от всего облика и характера этого худощавого, лопоухого, с виду ничем не примечательного паренька, который к тому же выглядел еще моложе своих семнадцати лет и смешно старался казаться взрослым. Тогда же Ляля узнала любопытную деталь из школьной биографии Войцеховского. Оказывается, он оставался на второй год в седьмом классе из-за грамматики, которая была его слабым местом, но затем, занимаясь дома самостоятельно, одолел сразу два класса и догнал товарищей. Чем ближе узнавала Ляля Игоря, тем больше удивлялась этой его самостоятельности, воле и упрямству, сказывавшимся буквально во всем, что бы он ни делал.