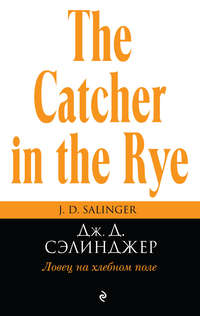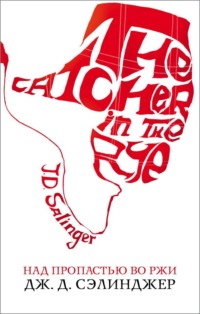Полная версия
Фрэнни и Зуи
– Боже. У нас нет времени. Еще повезет, если на матч успеем. – Он поднял взгляд на официанта. – Мне, пожалуйста, только кофе. – Посмотрел, как официант уходит, затем подался вперед, выложил руки на стол, – совершенно расслабленный, желудок полон, кофе сейчас принесут, – и сказал: – Ну, все равно это интересно. Всякое такое… По-моему только, ты не оставляешь здесь никакого простора даже для самой примитивной психологии. В смысле, я думаю, все эти религиозные переживания имеют под собой весьма очевидное психологическое основание – ты понимаешь… Хотя интересно. В смысле, этого нельзя отрицать. – Он перевел взгляд на Фрэнни и улыбнулся. – Как бы то ни было. На тот случай, если я забыл упомянуть. Я тебя люблю. Я уже говорил?
– Лейн, ты извинишь меня еще разок на секундочку? – спросила Фрэнни. Она поднялась, еще не завершив вопроса.
Лейн тоже встал – медленно, глядя на нее.
– Все в порядке? – спросил он. – Тебя опять тошнит или что?
– Мне странно, и все. Я быстро.
Она живо прошла по обеденной зале – тем же маршрутом, что и раньше. Но у небольшого коктейль-бара в дальнем углу остановилась как вкопанная. Бармен, вытиравший насухо лафитник, посмотрел на нее. Она положила правую руку на стойку, опустила – склонила – голову и поднесла левую руку ко лбу, едва коснувшись его кончиками пальцев. Чуточку покачнулась, затем, потеряв сознание, рухнула на пол.
Фрэнни совершенно пришла в себя только минут через пять. Она лежала на тахте в кабинете управляющего, а рядом сидел Лейн. Лицо его, тревожно нависшее над ней, нынче располагало собственной примечательной бледностью.
– Ты как? – спросил он довольно больнично. – Лучше?
Фрэнни кивнула. На секунду зажмурилась – свет резал глаза, – потом вновь их открыла.
– Я должна спросить: «Где я?», да? – спросила она. – Где я?
Лейн рассмеялся.
– Ты в кабинете управляющего. Все носятся, ищут нашатырь и врачей, и чем бы тебя еще привести в чувство. Нашатырь у них, судя по всему, закончился. Ты как, а? Серьезно.
– Отлично. Глупо, но отлично. Я честно упала в обморок?
– Не то слово. Грохнулась по-настоящему, – ответил Лейн. Взял ее руку в свои. – Что же с тобой такое, а? В смысле, ты говорила так… ну, знаешь… так безупречно, когда мы на прошлой неделе с тобой по телефону разговаривали. Ты сегодня не завтракала, что ли?
Фрэнни пожала плечами. Глаза ее обшаривали комнату.
– Так стыдно, – сказала она. – Кому-то по правде пришлось меня нести?
– Нам с барменом. Мы тебя как бы волоком сюда. Ты меня просто дьявольски напугала, честно.
Фрэнни задумчиво, не мигая, смотрела в потолок, пока ее держали за руку. Затем повернулась и свободной рукой как бы отогнула Лейну манжету.
– Который час? – спросила она.
– Да ну его, – ответил Лейн. – Мы не спешим.
– Ты же на коктейль хотел.
– Ну его к черту.
– И на матч опоздали? – спросила Фрэнни.
– Послушай, я же говорю – ну его к черту. Ты сейчас отправишься к себе в как их там… «Голубые ставни» и хорошенько отдохнешь, это важнее всего, – сказал Лейн. Он подсел чуточку ближе, нагнулся и поцеловал ее – кратко. Повернулся, глянул на дверь, затем снова на Фрэнни. – Сегодня будешь только отдыхать. И больше ничего не делать. – Очень недолго он гладил ее руку. – А потом, может, немного погодя, если хорошенько отдохнешь, я смогу как-нибудь подняться. Там же, по-моему, есть задняя лестница. Я выясню.
Фрэнни ничего не ответила. Смотрела в потолок.
– Знаешь уже как зверски долго? – спросил Лейн. – Когда тот вечер в пятницу был? Это же в начале прошлого месяца, нет? – Он покачал головой. – Не пойдет. Слишком долго без единого глотка. Если выразиться грубо. – Он пристальнее посмотрел на Фрэнни. – Тебе правда получше?
Она кивнула. Повернула к нему голову.
– Только мне ужасно пить хочется. Мне можно воды, как ты думаешь? Это не очень сложно?
– Черт, да нет конечно! Тебе ничего будет, если я тебя на секундочку оставлю? Я, пожалуй, знаешь, что сделаю?
В ответ на второй вопрос Фрэнни покачала головой.
– Я пришлю кого-нибудь, чтобы тебе воды принесли. Потом найду старшего официанта и скажу, что нашатыря не надо, – и, кстати, расплачусь. Потом найду такси – чтобы ждало и нам не пришлось бегать его ловить. Может, несколько минут займет, большинство подбирают тех, кто на матч. – Он отпустил руку Фрэнни и поднялся. – Ладно? – спросил он.
– Отлично.
– Ладно, я сейчас вернусь. Замри. – И он вышел.
Фрэнни осталась лежать одна, вполне замерев, глядя в потолок. Губы ее задвигались, лепя беззвучные слова, – и двигаться не переставали.
Зуи
Наличествующие факты предположительно говорят сами за себя, но, я подозреваю, – чуточку вульгарнее, нежели фактам обычно свойственно. Для равновесия, стало быть, начнем с неувядающего и волнующего позорища – официального знакомства с автором. Я о введении, которое не только многословно и искренне так, что и во сне не приснится, но еще и довольно мучительным манером интимно. Если при должном везении это сойдет мне с рук, по воздействию своему оно сравнимо будет с принудительной экскурсией по машинному отделению, а я, экскурсовод, буду показывать дорогу в старомодном закрытом купальнике от «Янцена»[22].
Переходим к худшему: предложить вам я собираюсь вообще-то не вполне рассказ, а нечто вроде домашнего кино в прозе, и те, кто уже видел отснятый материал, настоятельно мне рекомендовали не лелеять изощренных планов касаемо его проката. Группа несогласных (а выдать сие – и привилегия моя, и головная боль) состоит из трех исполнителей главных ролей – двух женщин и одного мужчины. Ведущую актрису рассмотрим первой – она, пожалуй, предпочла бы краткое описание «апатичная и изощренная особа». Ей представляется, что все бы ничего, если б я сделал что-нибудь с пятнадцати-двадцатиминутной сценой, в которой она несколько раз сморкается, – просто отчикал бы эту сцену, насколько я понимаю. Актриса утверждает, что наблюдать, как кто-то все время сморкается, отвратительно. Вторая дама актерского ансамбля, лощеная сумеречная субретка, возражает, что я, так сказать, заснял ее в старом халате. Ни одна барышня (как, намекнули они мне, желательно их именовать) слишком уж визгливо не протестует против моих эксплуатационных поползновений. Вообще-то – по ужасно простой причине. Хоть мне и приходится несколько за нее краснеть. Им по опыту известно, что я ударяюсь в слезы при первом же резком слове или возражении. Однако с самым красноречивым призывом отменить постановку обратился ко мне исполнитель главной роли. Ему кажется, что сюжет вращается вокруг мистицизма, иначе – религиозной мистификации; как бы то ни было, он ясно дает понять, что здесь слишком нагляден некий трансцендентный элемент, который, по его мнению и к вящему его беспокойству, способен будет лишь ускорить, придвинуть день и час моего профессионального краха. По моему поводу уже качают головами, и любое непосредственно профессиональное употребление с моей стороны слова «господи» иначе как в виде знакомого и полезного американского междометия воспринято будет – точнее, упрочится – как наихудшая разновидность похвальбы знакомствами и верный знак того, что я иду прямиком псу под хвост. Что, разумеется, способно вынудить любого нормального малодушного человека, а особенно – человека пишущего, – задуматься. И вынуждает. Но лишь задуматься. Ибо контрдоводы, сколь красноречивы бы ни были, хороши лишь постольку, поскольку применимы. Факт тот, что время от времени я снимаю домашнее кино в прозе с пятнадцати лет. Где-то в «Великом Гэтсби» (который в двенадцать был для меня «Томом Сойером») молодой рассказчик замечает, что все подозревают в себе наличие по меньшей мере одной из главнейших добродетелей, и далее говорит, что своей полагает, видит бог, честность[23]. Моя же, сдается мне, в том, что я умею отличить мистическую историю от любовной. Я утверждаю, что нынешнее мое подношенье – вовсе не мистическая история, не религиозно дурманящая история вообще. Я говорю, что это составная, иначе – множественная любовная история, чистая и сложная.
Сюжетная линия, чтоб уж закончить, по большей части – результат довольно нечестивых общих усилий. Почти все нижеследующие факты (следующие ниже медленно, спокойно) поначалу преподносились мне отвратительно разрозненными порциями и по ходу отчасти до жути приватных – для меня – сессий тремя героями-исполнителями лично. Ни один из трех, вполне можно добавить, вовсе не проявил заметно грандиозного таланта к выбору деталей либо сжатому изложению происшедшего. Недостаток, опасаюсь я, который перенесется и на эту окончательную – иначе съемочную – версию. Не могу его извинить, к прискорбию своему, однако попробую объяснить и на сем настаиваю. Все мы вчетвером – кровные родственники и говорим на некоем эзотерическом семейном языке, изъясняемся чем-то вроде семантической геометрии, где кратчайшее расстояние между двумя точками – примерно полная окружность.
Одна последняя справка. Наша фамилия – Гласс. Еще чуть-чуть – и вы увидите самого младшего Гласса мужеского пола за чтением необычайно длинного письма (кое воспроизведено здесь будет полностью, это я могу вам уверенно обещать), присланного ему старейшим из живущих его братьев, Дружком Глассом. Стиль письма, говорят мне, несет отнюдь не просто мимолетное сходство со стилем, иначе – письменной манерностью – вашего рассказчика, и широкий читатель, вне всякого сомнения, прыгнет к опрометчивому заключению, что мы с автором письма – одно лицо. Прыгнет-прыгнет – я боюсь, не прыгнуть тут не выйдет. Мы же отныне и впредь оставим этого Дружка Гласса в третьем лице. По крайней мере, я не вижу веской причины его отсюда изъять.
В половине одиннадцатого утра, в ноябрьский понедельник 1955 года Зуи Гласс, юноша двадцати пяти лет, восседал в очень полной ванне, читая письмо, которому исполнилось четыре года. На вид оно было едва ли не бесконечным – его напечатали на нескольких страницах желтой бумаги без всяких шапок, – и юноша с некоторым трудом удерживал его, подпирая двумя сухими островками коленей. Справа на краю встроенной в бортик эмалевой мыльницы в равновесии покоилась вроде бы подмокшая сигарета – причем тлела она, очевидно, неплохо, ибо время от времени Зуи снимал ее и делал затяжку-другую, не вполне отрывая взгляда от письма. Пепел неизменно падал в воду – либо непосредственно, либо скользил по странице. Юноша, казалось, не сознавал эдакой безалаберности вокруг. А сознавал он – хоть и едва – то, что жар воды, похоже, начинает его самого иссушать. Чем дольше он сидел за чтением – иначе перечитыванием, – тем чаще и менее рассеянно промакивал запястьем лоб и верхнюю губу.
В Зуи – будьте уверены с самого начала – мы имеем дело со сложностью, с наложением, с расщеплением, и сюда следует вставить по меньшей мере два абзаца как бы из личного дела. Для начала, это юноша мелкий и крайне хрупкий телом. Сзади – в особенности там, где виднеются позвонки, – он мог бы запросто сойти за какое-нибудь обездоленное чадо метрополии, коих каждое лето отправляют в обеспеченные пожертвованиями лагеря на откорм и загар. Вблизи анфас либо в профиль он исключительно симпатичен – даже эффектен. Его старшая сестра (коя скромно предпочитает обозначаться здесь «домохозяйкой из Такахо») просила меня описать его так: похож на «голубоглазого еврейско-ирландского следопыта из могикан, который умер у тебя на руках за рулеткой в Монте-Карло». На более общий и уж точно не такой захолустный взгляд, лицо его едва спаслось от излишней красоты, не сказать – шика, поскольку одно ухо у него торчит немного больше другого. Сам я придерживаюсь мнения, весьма отличного как от первого, так и от второго. Я утверждаю, что лицо Зуи близко к целиком и полностью прекрасному. Как таковое, оно, разумеется, уязвимо для того же разнообразия многоречиво бесстрашных и, как правило, обманчивых оценок, что и любое законное произведение искусства. Сдается мне, тут можно лишь сказать, что любая из сотни каждодневных угроз – автокатастрофа, насморк, ложь перед завтраком – сумела бы обезобразить или загрубить его изобильную привлекательность за один день или в одну секунду. Но то, что оставалось неуничтожимо и, как уже столь беспрекословно было внушено, служило своеобразной радостью навеки[24] – подлинный esprit[25], наложившийся на всю его физиономию, – особенно видно по глазам, где дух этот часто останавливает взгляд, подобно маске Арлекина, а временами – и еще более озадачивая.
По профессии Зуи – актер, ведущий актер на телевидении, и является таковым уже больше трех лет. На самом деле он столь же «пользуется спросом» (и, если верить смутным косвенным сообщениям, что достигали его семьи, столь же высоко оплачивается), сколь молодому ведущему актеру на телевидении, быть может, и подобает, если он притом не звезда Голливуда или Бродвея с уже готовой национальной репутацией. Но, возможно, любое из сих утверждений без развития способно привести лишь к чрезмерно ясной линии умозаключений. Так вышло, что официальный серьезный артистический дебют на публике у Зуи состоялся в семь лет. Он был вторым младшим из первоначального состава семи братьев и сестер[26] – пяти мальчиков и двух девочек: всех в довольно удобно рассредоточенные интервалы их детства можно было регулярно слышать в сетевой радиопрограмме – детской викторине под названием «Что за мудрое дитя». Почти восемнадцатилетняя разница в возрасте самого старшего из детей Глассов, Симора, и самой юной, Фрэнни, весьма значительно поспособствовала семейству в резервировании, можно сказать, династического места у микрофонов «Мудрого дитяти», и занимали они его шестнадцать лет с лишним – с 1927-го едва ли не по середину 1943-го, охватом своим связывая эпоху чарльстона с эпохой «Б-17»[27]. (Эти данные в совокупности, мнится мне, до некоторой степени значимы.) Несмотря на все интервалы и годы между индивидуальными звездными часами в программе, следует отметить (с немногими и не очень, по сути, важными оговорками), что всем семерым в эфире удавалось отвечать на изрядное количество попеременно смертельно-педантичных и смертельно-прелестных вопросов, присылавшихся слушателями, – отвечать с теми свежестью и самоуверенностью, что на коммерческом радио считаются уникальными. Публика отзывалась на детей зачастую жарко и никогда не прохладно. В общем и целом, слушатели делились на два причудливо вздорных лагеря: тех, кто полагал Глассов бандой несносно «высокомерных» маленьких ублюдков, которых следовало утопить или отправить в газовую камеру при рождении, и тех, кто утверждал, что Глассы – истинные несовершеннолетние остряки и гении необычайного, хоть и незавидного пошиба. Когда пишутся эти строки (1957), некоторые бывшие слушатели программы «Что за мудрое дитя» помнят с поразительной, по сути своей, точностью множество отдельных выступлений каждого из семерых детей. В той же редеющей, но по-прежнему странно тесной группе общее мнение таково, что из всех детей Глассов «лучше всего», неизменнейше «полезно» в конце двадцатых – начале тридцатых годов слушать было самого старшего, Симора. После него в порядке предпочтения либо привлекательности обычно ставится самый младший в семье мальчик, Зуи. А поскольку у нас к Зуи интерес исключительно повседневный, можно понять, что его как бывшего участника викторины «Что за мудрое дитя» среди (иначе – из) прочих братьев и сестер выделяет, как в альманахе, одно. Время от времени за все годы вещания все семеро детей служили честной добычей для той разновидности детских психологов или профессиональных педагогов, которую особо интересуют сверхскороспелые детки. Во имя сей цели, иначе – выполнения сего долга, Зуи из всех Глассов, бесспорно, наиболее алчно исследовали, опрашивали и расковыривали. Что крайне примечательно, без известных мне исключений, его опыт в таких столь различных областях, как клиническая, социальная и газетно-ларьковая психология, стоил ему дорого, словно те заведения, где в Зуи ковырялись, повсеместно кишели либо крайне заразными травмами, либо же обычными старомодными микробами. К примеру, в 1942 году (с непреходящего неодобрения двух самых старших его братьев, кои оба в то время служили в армии) его целых пять раз проверяла только одна исследовательская группа в Бостоне. (При большинстве сессий ему было двенадцать, и, возможно, поездки по железной дороге – общим числом десять – хотя бы поначалу несколько его привлекали.) Своей основной целью пять тестов, как легко догадаться, имели вычленение и, по возможности, изучение источника столь раннего остроумия и фантазии Зуи. В конце пятого теста объект был отправлен домой в Нью-Йорк с тремя-четырьмя таблетками аспирина в конвертике с тиснением – от насморка, который оказался очаговой пневмонией. Недель шесть спустя в половине двенадцатого ночи раздался междугородный звонок из Бостона, и неопознанный голос, часто позвякивая монетками, опускаемыми в обычный телефон-автомат, – предположительно, без намерения выглядеть комичным педантом – сообщил мистеру и миссис Гласс, что у их сына Зуи в двенадцать лет словарный запас в точности сравним с вокабуляром Мэри Бейкер Эдди, если мальчика удастся убедить его применять на практике.
Итак: длинное машинописное четырехлетней давности письмо, которое Зуи прихватил с собой в ванну в это ноябрьское утро, понедельник, год 1955-й, за прошедшие четыре года, очевидно, извлекалось из конверта, разворачивалось и снова складывалось в уединении слишком уж часто, а потому ныне вид имело не только малосъедобный, но и порвано было в нескольких местах, особенно – на сгибах. Автором письма, как уже говорилось выше, выступал самый старший из живых братьев Зуи – Дружок. Само письмо было поистине бесконечным в длине своей, цветистым, назидательным, многословным, предвзятым, увещевательным, снисходительным, постыдным – и до переизбытка полнилось нежностью. Говоря короче, именно такое письмо получатель, хочет он того или нет, будет некоторое время таскать с собой в заднем кармане. И такое профессиональные писатели определенного сорта любят воспроизводить дословно:
18/3/51
ДОРОГОЙ ЗУИ, я только что закончил расшифровку длинного письма, пришедшего сегодня утром от мамы, – сплошь про тебя, улыбку генерала Эйзенхауэра и маленьких мальчиков в «Дэйли Ньюс», которые падают в лифтовые колодцы, и когда же наконец мой телефон в Нью-Йорке снимут и поставят сюда, в деревню, где он мне действительно нужен. Без сомнения, единственная женщина на свете, способная писать письма с невидимым курсивом. Дорогуша Бесси. Каждые три месяца как часы я получаю от нее пятьсот слов текста про мой бедный старый личный телефон и как глупо платить каждый месяц Большие Деньги за то, чем никто здесь никогда больше даже не пользуется. Что есть поистине огромные жирные враки. Бывая в городе, я неизменно сижу и часами болтаю с моим старинным приятелем Ямой[28], Богом Смерти, и личный телефон для наших побрехушек необходим. Короче, будь добр – передай ей, что я не передумал. Этот старый телефон я обожаю страстно. Единственная поистине частная собственность, которая была у нас с Симором во всем кибуце у Бесси. Кроме того, для моей внутренней гармонии сущностно важно каждый год видеть Симора в дурацком телефонном справочнике. Мне нравится уверенно листать букву «Г». Будь умницей, так и передай. Не вполне дословно – вежливо. Будь добрее к Бесси, Зуи, когда можешь. Пожалуй, я говорю это не потому, что она наша мать, – но потому что она устала. После тридцати или около того так и будет, когда все чуточку притормаживают (даже, может быть, ты), но и сейчас старайся сильнее. Недостаточно относиться к ней с преданным зверством танцора-апаша к его партнерше – это она понимает, кстати говоря, и неважно, что ты там себе думаешь. Ты забываешь, что она цветет на сентиментальности почти так же, как Лес.
Помимо телефонных моих проблем, нынешнее письмо Бесси – вообще-то письмо о Зуи. Я должен написать тебе, что Перед Тобой Вся Жизнь и Преступно не стремиться к Ученой Степени перед тем, как ты по-крупному нырнешь в актерство. Бесси не уточняет, в какой области ей хотелось бы твоей Ученой Степени, но я предполагаю – скорее в математике, нежели в греческом, мерзкий ты книжный червячок. Как бы то ни было, я понимаю: ей хочется, чтобы тебе Было На Что Опереться, если с актерской карьерой почему-либо не сложится. Что, может быть, весьма здраво и, наверное, так и есть, но мне что-то не хочется выступать с таким заявлением самому. Сегодня, так уж вышло, один из тех дней, когда я всех в нашей семье, включая себя, вижу не в тот конец телескопа. Утром мне пришлось взаправду напрячься у почтового ящика, чтобы вспомнить, кто такая Бесси, когда я увидел ее имя в обратном адресе на конверте. Хотя бы по одной вполне веской причине: курс «Писательское мастерство повышенного уровня 24-А» загрузил меня тридцатью восемью рассказами, которые мне скрепя сердце тащить домой на выходные. Из них тридцать семь будут повествовать о робкой затворнице-лесбиянке из пенсильванских немцев[29], которая Хочет Писать, и излагаться от первого лица развратной борзописицей. На диалекте.
Полагаю, тебе, само собой, известно: несмотря на то, что все эти годы я перетаскивал свой столик литературной шлюхи из колледжа в колледж, у меня по-прежнему нет даже диплома бакалавра. Как будто сто лет уже прошло, но, мне кажется, в самом начале было две причины, почему я не стал сдавать на степень. (Будь любезен, посиди спокойно. Я пишу тебе впервые за долгие годы.) Во-первых, в колледже я был истинный сноб, каким может быть лишь бывший участник «Мудрого Дитяти» и будущий пожизненный дипломант по филологии, и мне вовсе не хотелось никаких степеней, если у всех моих знакомых неначитанных грамотеев, дикторов радио и педагогических тупиц они имеются во множестве. И вторая: Симор свою степень получил в том возрасте, когда большинство юных американцев только оканчивают среднюю школу, и поскольку мне уже поздно было догонять его хоть с каким-то изяществом, я от степени отказался. Разумеется, к тому же я в твоем возрасте точно знал, что преподавать меня не вынудят никогда, а если Музам моим не удастся меня обеспечить, я пойду куда-нибудь точить линзы, как Букер Т. Вашингтон[30]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Мэтью Сэлинджер (р. 1960) – сын Дж. Д. Сэлинджера и Клэр Дуглас, ныне американский актер телевидения, театра и кино (в частности, известный заглавной ролью в фильме «Капитан Америка», 1991).
2
Уильям Шон (1907–1992) – главный редактор (1952–1987) журнала «Нью-Йоркер».
3
Гений дома (лат.), дух-хранитель домашнего очага.
4
«Бёрберри» – английская фирма элитной одежды и аксессуаров, основана в 1856 г.
5
«Христианская наука» – протестантская секта, основанная Мэри Морс Бейкер Эдди (также Мэри Бейкер Гловер Эдди, 1821–1910) в 1866 г. сначала как движение, затем как самостоятельная церковь (1879). Основана на вере в духовное излечение от всех физических и духовных грехов и недугов с помощью Слова Христова.
6
Пер. В. Вересаева.
7
Академия Филлипса в Экзетере – одна из наиболее известных и престижных школ-интернатов, находится в штате Нью-Хэмпшир, основана в 1781 г. Колледж (Софии) Смит – престижный частный колледж высшей ступени преимущественно для женщин в г. Нортхэмптоне, штат Массачусетс, основан в 1871 г. Колледж Вассара – престижный частный гуманитарный колледж высшей ступени в г. Покипси, штат Нью-Йорк, основан в 1861 г. как женский. Беннингтонский колледж – частный колледж высшей ступени в г. Беннингтоне, штат Вермонт, основан в 1925 г. как экспериментальный гуманитарный колледж для женщин. Колледж Сары Лоуренс – престижный частный колледж высшей ступени в г. Бронксвилле, пригороде Нью-Йорка, основан в 1926 г. как женский колледж.
8
«Мориз» («Mory's Temple Bar») – частный клуб неподалеку от кампуса Йельского университета, основан в 1849 г. «Кронинз» («Cronin's Bar») – один из любимых баров гарвардских студентов, до конца 1950-х гг. располагался на Гарвард-сквер.
9
Точное выражение (фр.). Французский писатель Гюстав Флобер (1821–1880), автор «Мадам Бовари» (1856), неоднократно заявлял о своем стилистическом перфекционизме и поисках «нужного слова».