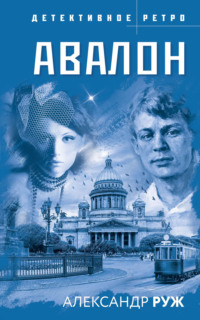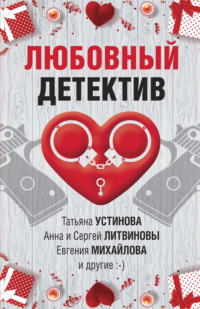Полная версия
Зов Полярной звезды
Подполковник приходил во все большее замешательство. Говоривший с ним мысли излагал ясно, голос звучал чуть с хрипотцой, как бывает при простуде или после долгого молчания. Дитмар отметил про себя абсолютную правильность речи, разве что начальные «р» были чуть раскатистее – так их произносят уроженцы южноевропейских стран, к примеру итальянцы или испанцы.
Подполковник сдвинулся назад, к отверстию, стараясь подманить собеседника поближе к источнику света. Общаться с расплывчатым пятном было не очень комфортно.
– Я именую себя бывшим по той причине, что гарнизона крепости Осовец давным-давно не существует, – пояснил он как можно мягче. – Или вы не осведомлены об этом?
– Не осведомлен. – Пятно качнулось. – А как же война… закончилась?
– Какой, по-вашему, сейчас год?
– Тысяча девятьсот двадцать третий, – без запинки ответил тот, кто назвался рядовым Арсеньевым.
– А когда, позвольте спросить, вы заступили на пост?
– Восемнадцатого августа тысяча девятьсот пятнадцатого.
– Вы хотите сказать, что пробыли в подземелье восемь лет?! Как в такое поверить, милейший?..
И все-таки приходилось верить. После подрыва складов подполковник лично проверил качество работы минеров и убедился, что входы замурованы наглухо. Не осталось ни единой лазейки, за исключением вентиляционных трубок, столь миниатюрных, что в них застряла бы и мышь. У часового, если его и впрямь забыли на складе, не имелось никаких возможностей покинуть свое узилище. Но как он сумел прожить здесь эти восемь лет?
– Вот что, – решил подполковник после непродолжительного молчания, – выйдемте-ка наружу. Вам нет смысла стоять здесь, война закончилась.
Пятно в конце коридора вновь зашевелилось, приблизилось. Дитмар смог различить очертания высокого, под два метра, человека в пехотной шинели, с винтовкой наперевес. И еще подполковнику почудилось, что на голову этого человека накинут черный балахон. По телу поползли мурашки, рассказы о призраках уже не казались такими нелепыми.
– Я не могу покинуть пост, – промолвила химера. – Меня может снять с него только мой непосредственный командир.
– А кто ваш командир?
– Капитан Свечников.
– Я имею сведения, что Михаил Степанович ныне проживает в Москве, служит при штабе РККА. Трудновато вам будет получить от него разрешение.
– Р…К… КА? – по слогам выговорило озадаченное видение и опустило винтовку. – Что это такое?
Набравшись терпения, подполковник прочел выходцу из прошлого краткую лекцию, в которой разъяснил, что уж и прежней России в помине нет, и земли под Осовцом отошли независимой Польше, и командиров-начальников погибшей крепости разнесло по свету. Рядовой Арсеньев стоял как громом пораженный.
– Кому же я теперь служу? – спросил он потерянно.
– Да выходит, что никому. Как и я… Меня-то вы хоть помните? Наверняка встречали при штабе.
Часовой сокрушенно помотал закутанной в балахон головой.
– Не помню, ваше высокоблагородие. Когда взорвали вход, я получил контузию… многое выпало из памяти.
– Ясно. Лучше бы про «высокоблагородие» забыли. Времена переменились, теперь за титулование и побить могут…
Дитмару все же удалось уговорить эту престранную личность покинуть подземелье. Рядовой Арсеньев вслед за подполковником вылез из своей темницы и в лучах заходящего солнца предстал пред очами изумленных поляков. На свету сделалось очевидным, что никакого балахона у него на голове нет – это отросшие за восемь лет черные как смоль волосы падали ниже пояса, закрывая половину фигуры, и не позволяли понять, стар часовой или молод.
Поляки от удивления зацокали языками, придвинулись ближе, но не вплотную. Явившийся из-под земли пугал их, понятное без перевода слово «дьявельство» прошелестело по рядам. Капрал Коварский тихо вытянул из кобуры револьвер. Косматый воин насторожился, как пес, почуявший дичь.
– Здесь не меньше дюжины человек, – сказал он громко. – Без винтовок, но с лопатами. – Он повернулся к капралу. – Оружие только у вас. Уберите его, я не люблю, когда в меня целят.
– Вы видите сквозь эту завесу? – поразился Дитмар и указал на копну волос.
– Нет. Она слишком густая, да и глаза у меня зажмурены. На складе был запас свечей, но он кончился четыре года назад, так что я отвык от освещения, боюсь ослепнуть.
– Как же вы определили, кто и что перед вами?
– На слух. Когда годами живешь в полной темноте, волей-неволей научишься слышать лучше, чем это делают обычные люди. Мне кажется, я теперь могу обходиться совсем без зрения. Угадываю очертания предметов и движения по звуку – как летучие мыши, знаете?
Дитмар отважился прикоснуться к лохмам собеседника. Они оказались пышными, ничуть не засаленными и пахли мылом. Сапоги рядового Арсеньева выглядели тщательно вычищенными, а шинель была свежа, словно он только сегодня утром заступил в караул. В таком же образцовом состоянии оказалась и трехлинейка, которую он сжимал в руке: ее ствол поблескивал, умащенный смазкой, а на замке и прочих металлических частях – ни пятнышка ржавчины.
– В консервах много масла, – тотчас отреагировал Арсеньев. – Я питался ими каждый день, а маслом смазывал винтовку. Не пропадать же добру. Грязь я терпеть не могу. По стенам коридора течет вода, она и для питья годится, а за неделю мне удавалось набрать лишних ведра три. Как р-раз на помывку. Что до обмундирования, то его хватило бы на целую р-роту.
– Чи зосталось там шось? – встрял в диалог Коварский. Оторопь, вызванная явлением забытого часового, прошла, и капрала волновала судьба хранившегося на складе имущества.
– Зосталось, – удостоверил из-под гривы Арсеньев. – Не такой уж я прожорливый.
– Это только один из складов, – успокоил поляков Дитмар. – Надеюсь, в остальных все цело.
Арсеньев отвел рукой волосы, и под черными прядями обнаружилось лицо, окаймленное бородой, которой позавидовал бы сказочный леший.
– Сколько вам лет? – полюбопытствовал Дитмар. – Сорок? Пятьдесят? Голос у вас молодой…
– Мне двадцать семь. Что, не верите?
– Я уже теперь и не знаю, во что верить, – честно признался подполковник.
Сутки спустя найденного доставили в Варшаву. К моменту, когда состоялся его допрос в кабинете полицейского следователя Кухарчика, он был уже гладко выбрит и аккуратно подстрижен. Жгучий брюнет, немного застенчивый, немного ошалевший от шумного мира, куда он вернулся после многолетней изоляции. Глаза его скрывали темные очки, которые он надел, чтобы постепенно привыкнуть к свету. Впрочем, ушлые газетчики, пронюхавшие о сенсационном найденыше, успели запечатлеть его в том самом виде, в каком он вышел из подземелья, и эти шокирующие портреты вкупе с заголовками «Гость из преисподней», «Погребенный заживо», «Осовецкий дикарь» гуляли по всем ведущим изданиям Европы. Но сам «дикарь» еще и знать ничего не знал о своей славе.
Кухарчик сидел, развалясь, за столом и лениво смотрел на допрашиваемого. Вся эта история виделась следователю кем-то придуманной комедией, в которой ему поручили разобраться. Поди разберись, когда единственный источник информации – сидящий перед тобой нелюдимый бирюк, у которого, наверное, от затворничества мозги набекрень съехали. Что с такого возьмешь?
Тем не менее долг есть долг. Надо попытаться выудить хоть что-то.
– Вы утверждаете, – начал Кухарчик брезгливо, – что после взрыва, которым был завален вход в подземный бункер, получили контузию и потеряли память? Но вы сообщили, как вас зовут, а также назвали фамилию вашего командира.
Кухарчик до войны пять лет учился в Новгороде, говорил по-русски безупречно и не считал нужным лицедействовать, тем более что сейчас от успешного взаимопонимания зависело, как скоро он окажется дома и отведает вкуснейших кнедликов, приготовленных заботливой Зосей. Под ложечкой уже сосало, и желудок требовал свести время допроса к минимуму.
Русский, по-видимому, придерживался того же мнения. Он не стал распространяться, а взял и выложил перед следователем потрепанный блокнотик с надписью на обложке «Солдатская записная книжка». Кухарчик тоже служил в российской царской армии и знал, что таким нехитрым атрибутом снабжались все нижние чины. Он бегло пролистал книжку, бормоча отдельные строки:
– «Арсеньев Вадим Сергеевич… тысяча восемьсот девяносто шестого… православный… грамотный… из интеллигенции…» – Кухарчик поднял глаза. – Здесь сказано, что вы из Петрограда?
– Возможно, – пожал плечами Арсеньев. – Я не помню.
– И еще сказано, что вы прибыли в Осовец в феврале пятнадцатого года. То есть вас призвали не в начале войны, а через полгода? Или вы где-то служили раньше? Чем вы занимались до армии? Работали, учились?
– Не помню, – повторил Арсеньев расстроенно.
Нет, с головой у него все в порядке. Опытный Кухарчик даже по скупым репликам определил, что это не дикарь, не сумасшедший. И насчет принадлежности к интеллигенции книжка, похоже, не врала. Черты лица и поведение выдавали в рядовом особу благородного происхождения. Память? Да, память могла и пострадать. Кухарчик много слышал о контуженных, которые становились истинными младенцами, забывали даже, как ложку держать и пуговицы застегивать. Этому еще повезло…
– Значит, вы помните лишь то, что происходило после взрыва?
– Да. Все восемь лет, день за днем. Я вел календарь, поэтому знаю, сколько пробыл в подземелье.
– А выбраться оттуда вы не пробовали?
– Пробовал. Завал одному не разобрать, стены и потолок толстые и прочные. А у меня ни инструментов, ни взрывчатки…
Кухарчик заскучал. Видно же, что парень – не террорист, не диверсант. Зачем из него жилы тянуть? Сплавить с рук, и дело с концом. А то в ближайшие дни от репортеров отбоя не будет. Суету создают, работать мешают…
– Пан Арсеньев, вы бы желали остаться в Польше или вернуться в Россию?
На слове «Россия» сделал нажим – чтобы русский понял, что не больно-то он тут нужен.
– А Польша р-разве не Р-россия? – похлопал тот длинными ресницами. – Ах, да, простите… Вы же говорили, что все переменилось. – Он призадумался. – Что ж… тогда я хотел бы в Р-россию. Если меня там примут…
В тот же день советник полпредства РСФСР в Варшаве Леонид Оболенский был извещен о наличии субъекта, до революции проживавшего в Петрограде и желающего возвратиться на Родину. Оболенский изучил дело Арсеньева, немало подивился изложенным в полицейских протоколах обстоятельствам и нашел, что раз гражданин изъявляет желание вырваться из панской Польши в Страну Советов, то негоже чинить ему препятствия.
В конце лета Вадим Сергеевич Арсеньев в одном вагоне с красными дипкурьерами прибыл из Варшавы в Петроград.
А уже в сентябре знаменитый на весь мир академик, экс-генерал-майор медицинской службы Российской императорской армии, стоял возле телефонного аппарата и с присущей ему экспрессией кричал в трубку:
– Александр Васильевич, я вас умоляю: приезжайте немедленно! Да-да, ручаюсь, вы заинтересуетесь. Грандиозно! Я провел несколько экспериментов… это что-то необыкновенное!
Говоривший был не кем иным, как руководителем недавно созданного Института по изучению мозга и психической деятельности Владимиром Михайловичем Бехтеревым. Обласканный режимом Николая Второго, добившийся международного признания и престижнейших наград, какими только может быть отмечен врач-психиатр, он после октябрьского переворота нисколько не сожалел о низложенной власти. Подлинный рыцарь науки, он слабо разбирался в политике и в произошедшем сломе эпох увидел возможность расширить начатое дело. Сразу после революции он вытребовал у Наркомпроса под свой психоневрологический университет Мраморный дворец, принадлежавший ранее великому князю Константину Константиновичу, а затем обратился в Совнарком с просьбой об учреждении Института мозга. Просьба была удовлетворена, и Владимир Михайлович с наслаждением продолжил ученые изыскания, совершенно забыв о житейских бурях, бушевавших окрест.
В его заведение и был доставлен прибывший из Польши Вадим Арсеньев. Это произошло по инициативе самого Бехтерева, узнавшего из газет о феномене бессменного часового. «Осовецкого дикаря» прямо на перроне Витебского вокзала взяли под белы руки и препроводили сначала к академику, а после – в одну из лучших палат, где располагались обследуемые пациенты. Здесь, в просторном здании на Петроградской стороне, в дни, когда еще не оправившаяся от Гражданской войны страна залечивала раны и боролась с разрухой, ведущие умы силились раскрыть самые сокровенные тайны homo sapiens. И Арсеньев стал для этих умов бесценным подопытным.
В белом халате, накинутом поверх старорежимного генеральского мундира, с налипшими на лоб прядями и развевающейся бородой академик Бехтерев прошагал в больничный корпус. На сердце у него было легко, он предвкушал очередную беседу с «дикарем», которая обещала преподнести немало сюрпризов, способных обогатить науку. Пребывая в отличном настроении, он здоровался с сотрудниками, раскланивался с симпатичными ассистентками и совсем не замечал красноречивых подмигиваний и предупредительных жестов.
Поэтому, отворив дверь палаты, академик на мгновение впал в ступор. Он увидел троих молодцев, окруживших больничную койку, на которой сидел, ничего не понимая, Вадим Арсеньев. Облаченные в кожаные тужурки, молодцы держали его под прицелами наганов.
– Что здесь происходит? – рявкнул Владимир Михайлович с порога. – Вы кто такие?
– Тихо, папаша, – просипел один из молодцев, чье горло пересекал кривой шрам. – Мы при исполнении.
– Я вам не папаша! – Дюжий академик, игнорируя наганы, направился к кожаным. – Кто вам позволил вламываться в институт?
Под нос ему сунули бумажку за подписью начальника Петроградского губотдела ГПУ Станислава Мессинга.
– Смекай, папаша… – по новой начал сиплый, но был прерван своим сослуживцем, немолодым и степенным:
– Погоди, Евграф, не егози. – И далее уже Бехтереву: – Приказ у нас, гражданин академик. Доставить этого субчика в губотдел.
– Для чего?
– Я спрашивал, Владимир Михайлович, – подал голос понурившийся Арсеньев. – Не отвечают.
– Да нам и неведомо. Приказали – стало быть, есть за что… Вставай, голубь, некогда рассиживаться!
Вадим тяжело поднялся с койки, ему швырнули его одежду, и он принялся медленно стаскивать с себя больничную пижаму. Академик Бехтерев клокотал, подобно вулкану.
– Это черт знает что такое! Я буду жаловаться Дзержинскому…
– Да жалуйтесь куда угодно, хоть в Лигу Наций. Наше дело маленькое… Пошли, ребя!
И Арсеньева, застегивавшего на ходу пуговицы своей гимнастерки, вывели из палаты. Подталкивая наганами в спину, повели по коридору. Персонал института шарахался от идущих и старательно прятал глаза.
Бехтерев подбежал к окну палаты, увидел, как уникального пациента сажают в «Студебекер» и увозят прочь от клиники. Борода академика затряслась от возмущения и растопырилась, как веник.
– Я этого так не оставлю! Они не посмеют!
Владимир Михайлович, в свои шестьдесят шесть сохранивший энергичность, покинул палату, линкором пробороздил ряды сгрудившихся в коридоре сотрудников и, не отвечая ни на чьи вопросы, заперся у себя в кабинете. Нервным движением сдернул с телефонного аппарата трубку, гаркнул в микрофон:
– Москву дайте! Четырнадцать-тридцать один… Александр Васильевич? Снова Бехтерев беспокоит. Александр Васильевич, у нас беда!
Но оставим маститого академика изливать в мембрану оскорбленные и расстроенные чувства и проследим за судьбой нашего главного персонажа.
Вадим предполагал, что его повезут в какое-нибудь питерское госучреждение, наводненное такими же грубыми нахалами в кожанках. Он не знал, что такое ГПУ, но несложно было догадаться, что сие есть аналог охранки, воспоминания о которой смутно брезжили где-то в закоулках его капризной памяти. Вадиму отчего-то мнилось, что он тоже имел отношение к правоохранительным органам. По крайней мере, манеры кожаных не вызывали у него такого почти физиологического отторжения, какое обычно возникает у сугубых интеллигентов, впервые столкнувшихся с жандармским произволом. Сидя в «Студебекере» и будучи зажатым меж двух плечистых мордоворотов, он внимательно присматривался к ним, а заодно и к окружающей обстановке.
Петроград первых послевоенных лет был растрепан, несуразен и запоздало-задирист, как воробей после потасовки. Новая экономическая политика, придуманная Советским государством для того, чтобы вытащить страну из кризиса, пустила свои ростки, и они казусно переплелись с тем отмирающим, что осталось от старого режима и лихих лет военного коммунизма. На фоне замызганных щербатых улиц и облупившихся домов с выбоинами от пуль пестрели аляповатые вывески многочисленных ресторанов и кабаре. Несущиеся из увеселительных заведений мелодии дрянных куплетов заглушались звонкими голосами мальчишек, совавших прохожим серые газетные листки:
– Читайте свежий номер «Правды»! Землетрясение в Японии, четыре миллиона пострадавших! Италия захватила остров Корфу! Военный переворот в Испании, установлена диктатура генерала Риверы!
Вадим ловил обрывочные фразы, вбирал в себя новости. И еще – упивался светом, яркими живыми картинками, которых лишен был на протяжении стольких лет. С момента выхода из заточения в Осовце прошло уже около месяца, наблюдавший Вадима офтальмолог Ряшинцев позволил ему снять темные очки. Жидкое сентябрьское солнце в Петрограде ласкало взор, не обжигало, не доставляло неудобств, и Вадим смотрел по сторонам, жадно познавая новый для себя мир.
Вот продавцы папирос выкрикивают диковинные названия вперемежку с рекламными экспромтами:
– Покупайте «Делегатские»! У кого есть привычка, тот курит «Смычку», а у кого душа-цыганка, тому милей «Тачанка»!
А какую невероятную окрошку представляла собой уличная толпа! Рядом с суровыми военными шинелями мелькали прямые, с низкой талией, платья первых модниц эпохи нэпа. Их сбитые на лоб красные косынки и кружевные шляпки, из-под которых выглядывали короткие локоны, соседствовали с фуражками чекистов и грязными вихрами оборванцев-беспризорников. Простецкие рабочие блузы мешались с конусообразными костюмами-визитками, классическими смокингами, куртками из бобрика. Задрипанные парусиновые штаны в толчее терлись о брюки-галифе, а лощеные ботинки-«джимми» шлепали по тем же лужам, что и дамские резиновые ботики и расхлябанные солдатские сапоги с обвислыми голенищами.
Пахло ядреным табаком и дешевыми духами, гнилой картошкой и жареными рябчиками, выхлопными газами автомобилей и конским навозом.
– Натуральный Вавилон! – хохотнул сиплый Евграф, приметив, что творится с пленником. Помолчав, не сдержался, выказал интерес: – Это про тебя, что ли, писали – «Гость из преисподней»?
– Про меня.
– Взаправду восемь лет в подвалах просидел или брешут?
– Не брешут. Так и было.
– Что ж у буржуев не остался? Они б тебя по циркам показывали, денег бы загреб, зажил припеваючи…
– Не до цирков там сейчас, они сами после войны еле концы с концами сводят. Да и домой захотелось…
– Ишь ты! – Сиплый состроил вполне добродушную мину, полез в карман за кисетом. – Поди, все здесь чудны́м кажется, да? Питер уж не тот, что при империализме…
Не такие они и злые, эти крепыши в кожанках, подумал Вадим. Работа их озлобляет, заставляет с револьверами на ближних кидаться, а так – мужики мужиками, можно у них и сочувствие вызвать, и за жизнь потрепаться.
Начал с безобидного – в струю к тому, о чем рассуждал сиплый:
– Город мне сложно оценить, я же почти ничего не помню. Так, мутные образы всплывают… А вот почему у вас женщины такие?
– Какие?
– На мужчин похожи. Некрасиво же…
Тут все трое агентов в голос заржали – будто он несусветную чушь сморозил.
– Хо-хо! – прогудел Евграф и смачно высморкался в облепленную махрой тряпицу. – Ну ты и пельмень! У нас же эта… как ее, сатану… мансипация, во! Бабы в мешки рядятся, буфера бинтами перетягивают, только б за нашего брата сойти.
– А смысл?
– Равноправие им, видишь ли, подавай. Смысл… Да кто их ведает! Шилохвостки они и есть шилохвостки…
Переждав, пока подуляжется дружный гогот, Вадим ввернул то, ради чего затеял расспросы:
– Куда мы едем? Вроде как вокзал впереди… Меня что, депортируют из страны?
Кожаные посуровели. Евграф задымил вонючим самосадом, пропыхтел нехотя:
– Не полагается тебе знать… – Но все ж ответил, глянув искоса на соратников: – В Москву поедешь. Начальник тамошнего ГПУ товарищ Медведь тебя затребовал.
Внешность бывшего техника-строителя, а ныне главного стража столичного правопорядка Филиппа Демьяновича Медведя ничуть не соответствовала его фамилии. Сухопарый, с острыми чертами лица, бородкой клинышком и обширными залысинами, он производил впечатление самое мирное. Биография у него складывалась тоже не ахти какая героическая: до революции трудился себе в мастерских, а после Октября кочевал по разным коллегиям ЧК – от Тулы до Петрограда. Не чурался никакой должности, вплоть до самых неприглядных: заведовал концентрационными лагерями, руководил Отделом принудительных работ. За старание был поощряем и в конце концов вознесся по карьерной лестнице наверх, попав в начальники Московского губотдела ГПУ.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Копать (польск.).
2
Есть! Готово! (польск.)
3
Спички! (польск.)