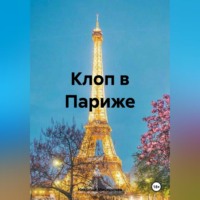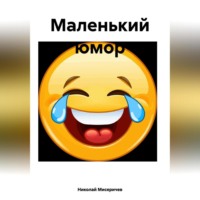Полная версия
Заметки реалиста
Пьянство главного героя является своего рода инструментом, при помощи которого ему удается достичь, как он сам выразился, некоторой «интимности», что значит полное обособленность от внешнего мира.
Этот мир, другой, внешний мир, представлен в произведении образом Кремля. При этом граница между двумя мирами является непреодолимой – в поисках Кремля главный герой всегда «натыкается» на Курский вокзал. И если в русской классической литературе «маленький человек» не настаивает, как правило, на самодостаточности и некоторой обособленности своего бытия, то герой поэмы «Москва – Петушки» должен быть маргиналом («чтобы сохранить и обозначить ценность своего мира»).
Художественное открытие Венедикта Ерофеева, а также историческое своеобразие его героя составляют маргинальное положение человека в социальном мире, которое сопряжено со смыслами, ценностями, обаянием «маленького человека».
Не раз становились предметами многих исследований библейские мотивы, сюжеты и образы в поэме «Москва – Петушки». Образ главного героя поэма некоторые исследователи видят как несущего на себе отблеск личности Иисуса Христа. Венедикт Ерофеев словно вынуждает своего персонажа «копировать» Иисуса Христа с самого начала поэмы и до ее конца.
«Крестный путь» Венички начался с принятия горькой кориандровой, что привело к тому, как пишет автор, что душа главного героя «в высшей степени окрепла, а члены ослабели». Таким образом, автор отсылает читателя к словам Спасителя в Гефсиманском саду: «Дух бодр, плоть же немощна» (Мф. 26:41).
Также ассоциация с Христом прослеживается с бездомностью Венички, которая воскрешает в памяти слова Спасителя: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову» (Мф. 8:20; Лк. 9:58).
Пребывание Венички в чужом подъезде как бы перекликается с сорокадневным постом Христа в пустыне: «Все знают – все, кто в беспамятстве попадал в подъезд, а на рассвете выходил из него – все знают, какую тяжесть в сердце пронес я по этим сорока ступеням чужого подъезда и какую тяжесть вынес я на воздух».
Далее стоит отметить главу «Карачарово – Чухлинка», в которой пьяный Веничка метался в четырех стенах, «страдал и молился», повторяя тем самым действия Спасителя в Гефсиманском саду, где, отойдя от учеников, Христос «молился и говорил: «Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия» (Мф. 26:36).
Главный герой поэмы переживает из-за мысли о том, за кого его приняли – за мавра или не за мавра, хорошо о нем подумали или плохо, что вновь отсылает читателя ко Христу, Который спросил своих учеников: : «За кого почитают Меня люди? Они отвечали: за Иоанна Крестителя, другие же – за Илию, и иные – за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал Ему в ответ: Ты – Христос» (Мк. 8:27-31).
Известно, что Венедикт Ерофеев всегда довольно остро ощущал абсурдность окружающего его мира, и когда он писал поэму «Москва – Петушки», то пытался найти соответствующую художественную форму, которая сочетала бы в себе разные полюсы – реальное и символическое, высокое и низкое.
Текст Ерофеева – постмодернистский, и его прочтение позволяет увидеть в нем много смыслов, отражающих плюралистичность авторского идиостиля, а также авторского взгляда на мир.
У автора не было цели указать, обличая, на те или иные пороки человечества, однако он прибегает к активному использованию тех же приемов, что и писатели-сатирики, доводящие создаваемые реалии (или же отдельные их черты) до настоящего абсурда при помощи гиперболизации и гротеска, тем самым вызывая эмоции острого неприятия и отвращения.
Ирония писателя однозначно более глубока и тонка, чем сатира. Улыбка его является символом крайней ранимости и философской мудрости, это своеобразная онтологическая печаль, которая обусловлена осознанием тщетности всех прикладываемых усилий. Ерофеев видит человека жертвой, а не кузнецом своего счастья или хозяином жизни. Тем более писатель не видит в человеке героя. Именно этим и определяется характер персонажей произведения, их абсурдность, аллегоризм, беспомощность и гротеск.
Ерофеев ощущает мир как что-то одушевленное, непостижимое и необъяснимое, и именно поэтому мир пугает своей хаотичностью. Как результат, поэма становится неким сюрреалистичным коктейлем, где стихийным образом соединились люди и цитаты, трагедия и комедия, явь и сон, правда и вымысел – все то, что сводит саму возможность познания и некоторого результата почти к показателю «ноль».
При помощи рационального подхода герои Венедикта Ерофеева оказываются не в состоянии принять, а также осилить отсутствие видимого смысла. В этом плане довольно показательными являются кажущиеся бессмысленными, к примеру, загадки Сфинкса Веничке. Абсурд начинает нарастать тогда, когда перед героем возникает «хор» Эриний и Суламифь – в качестве олицетворения неконтролируемых разумом и волей страстей.
Образ царя Митридата, который символизирует собой бренность земной власти, а также ее угрозу для маленького человека (такого, как Веничка) продолжает вереницу бессмыслиц. Именно этот царь становится одним из первых, кто нанес Венечке смертельные удары. И вовсе не имеет значения – в ужасном сне это происходит или в состоянии белой горячки.
Абсурдной является публика в «купе»: странные дед с внуком, черноусый человек в берете, жакетке и с бутылкой водки «Столичная», мужеподобная женщина с «черными усиками», «декабрист» в пальто.
Венедикт Ерофеев наделил свою поэму «Москва – Петушки» особыми звуками. К примеру, в ресторане Курского вокзала играет странная музыка с некими «песьими модуляциями», «льется ниоткуда сиплый женский бас». Нельзя не отметить также и фальшивую манерность Ивана Козловского, которая то и дело, что отталкивает.
Автор наполнил этот локус какофонией, тем самым формируя представление о нем как о средоточии хаоса и дисгармонии. К тому же он противопоставляет его внутреннему состоянию главного персонажа.
Другим проявлением абсурда в поэме Ерофеева можно назвать его трактат об икоте. Автор взял такое банальное явление и завернул его в пафосную обертку философский рассуждений, в которых соединялись терминология Канта, афоризмы латинского происхождения, Энгельс и Маркс, отрывки из Святого Евангелия и Достоевского. Идея низменного физиологического порядка стала своего рода поводом для глубокомысленных рассуждений о свободе и роке, о соотношениях необходимости и случайности, порядка и хаоса.
По мнению религиоведа и историка Алексея Муравьева, поэма «Москва – Петушки» Венедикта Ерофеева – это ни что иное, как повествование апокалиптического характера о путешествии к Богу: «Главный герой поэмы «Москва – Петушки» едет к Богу, но доехать возможно только, если выпотрошить и опустошить себя, пройдя, в конечном итоге, через смерть. Четыре человека, о которых повествуется в этом тексте, являются четырьмя Всадниками апокалипсиса.
Связи сознания с бытием передаются в словесном искусстве иначе. Литературный корпус указывает на то, что человеческое чувство – это своего рода реакция воображения или мышления на окружающую действительность. Даже наиболее неуловимые движения души являются узнаваемыми, они, как правило, сопряжены с вполне определенными впечатлениями, здесь срабатывает аспект внутренней формы слова. В этом и заключается специфика литературного творчество и искусства мышления. Текст поэмы Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки» является интересным с точки зрения интермедиальных компиляций, у которых нет в этом русле нужного исследования.
Поэма органично совмещает собственно литературный фон (фактор интертекстуальности) и музыкальную (интермедиальную) составляющую, столь близкую и интересную автору. Это, в свою очередь, позволяет по-новому оценить уже классический вариант фиксации постмодернистских настроений в русской литературе второй половины ХХ века.
С точки зрения Евгения Попова, Венедикт Ерофеев не только прекрасно знал музыку, но и «все, что он написал, музыкально, все оркестровано той мелодией, где классические ноты сменяются звуками советской эстрадной музыки, а Шарль Гуно естественно сосуществует с русской народной песней».
В поэме «Москва – Петушки» не номинально наличествует ассоциативная связь с музыкальным творчеством Шарля Гуно. Композитор в своих оперных работах формировал естественную правду бытия, передавал драму жизни простых, безызвестных людей. Музыкальные тексты Гуно ярко изображают действительность, что наличествует и в тексте ерофеевской поэмы. Медиальная, звуковая составляющая у Шарля Гуно детально отражает психологическое состояние человека, ориентирует слушателя к регистру его настроений, характерно это и повествовательной манере Вен. Ерофеева.
Некоторые исследователи творчества Ерофеева отмечают связь поэмы «Москва – Петушки» с различными музыкальными произведениями. В частности, Эдуард Власов упоминает о «Лоэнгрине» Рихарда Вагнера, «Фаусте» Шарля Гуно, «Паяцах» Руджеро Леонкавалло, «Хованщине», «Борисе Годунове» Модеста Мусоргского, «Севильском цирюльнике» Джоаккино Россини, «Евгении Онегине» Петра Чайковского.
Номинативно слово музыка в «Москве – Петушках» встречается не более двух-трех раз, но музыкальные включения постоянны. Звуки музыки читателю предлагается услышать уже в третьей главе «Москва. Ресторан Курского вокзала», это воспроизведение пения Ивана Козловского. Оно, по мнению Венички, неестественное, штамповое, мерзкое, что не нравится как герою, так и читателю: «…музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. В ресторан Веничка пришел, чтобы отвлечься от мучающих его мыслей: «Я сюда пришел: съесть бефстроганов и послушать Ивана Козловского или что-нибудь из «Цирюльника».
Следует отметить уникальность слуха, феноменальность музыкального чувства самого героя поэмы. У него есть знания и представления о классических музыкальных произведениях, он имеет собственное мнение относительно исполнителей. Музыка транслируется по радио. Веничке эти звуки неприятны, герой не научен воспринимать именно такой музыкальный стандарт, механически искаженный.
Для него это звучание неживое, мерзкое, примитивное; музыка, по герою – буквально настоящая гармония звуков, обязана звучать не таким образом, и не в этих условиях – не в вокзальном ресторане, где она предлагается в тяжелой для пищеварения линейке еды: «Бефстроганов есть, пирожное. Вымя…»
Веничка не воспринимает исполнения классических произведений в рамках развлекательно-увеселительных. Поэтому музыка в пространстве ресторана звучит не столько фоном, раздражающим героя, сколько катализатором, формирующим четкое отношение к советской, фальшивой реальности. Функционально данный музыкальный код дисгармонирует с естественным состоянием человека, умеющего ценить хорошую музыку.
Именно таким сложным целым можно представить музыкальное пространство поэмы. Кажется, что оно безгранично; музыка присутствует практически на всех уровнях текста. Здесь следует видеть не механическое включение музыкальных реминисценций и аллюзийных намеков на тот или иной музыкальный шедевр, но усматривать обобщение Ерофеевым предыдущего медиально-художественного опыта.
Владимир Короленко о переселенцах в Америку на примере рассказа "Без языка"
Тема эмиграции особенно актуальна в наши дни. К сожалению, современная геополитика заставляет миллионы людей сегодня эмигрировать без знания языка. Именно это является центральной темой произведения В.Г. Короленко «Без языка». Так актуальность темы реферата определяется современным аспектами жизни людей Восточной Европы. Тема эмиграции плотно переплетена с темой свободы, что так же является актуальной темой современности, так как человечество, как и сто лет назад, имеет множество нерешенных проблем, связанных с этой темой.
Произведение была полностью написана в 1895 году. Она была опубликована в журнале «Русское богатство». Работа написана под бурей впечатлений, которые испытал автор после поездки в Америку в 1903 году при посещении выставки в Чикаго.
Это произведение можно отнести к публицистическому жанру с элементами путевого очерка. Владимир Галактионович не только описывает быт и нравы Америки, но и разворачивает их анализ перед читателем. Он пытается понять смысл жизни американцев, будь он таким же, как у русского человека, или другим. Короленко сравнивает ее ценности со своими.
Тема рассказа совпадает с названием рассказа. В нем рассказывается о событиях украинского крестьянина, которые произошли с ним в Америке. Герой не знает языка и не понимает их быта.
Важной проблемой для автора является вопрос: стоит ли искать лучшей, более богатой и благополучной жизни в чужой стране? Главный герой по имени Матвей, оказавшись в США, скучает по родной стороне. А вот второстепенные персонажи порадовали новинкой.
Самое привлекательное в Америке – это воля. Именно проблема свободы оказывается самой главной в произведении. Многие люди, жившие тогда в России, Украине и других странах Восточной Европы, пытались уехать «на Запад». Именно Америка ассоциировалась со свободой. Но прибыв в эту землю, главный герой понимает, что все это призрак. Когда он разговаривает с чехом, он говорит, что свобода – это памятник даме. Но сам главный герой думает, что это освобождение от крепостной зависимости.
Большую функциональную роль в рассказе играет пейзаж, созданный автором. Он раскрывает тайные мысли и чувства героев. Существует также проблема глобальной разницы в культуре и правилах этикета.
Главные герои произведения В.Г. Короленко прибыли в Америку из Волынской губернии Российской империи. Кроме того, на протяжении всего рассказа упоминаются следующие иммигранты: русские евреи, ирландцы и в меньшей мере немцы и англичане. Ирландцы, пик переселения которых приходился на середину XIX в., как и немцы, относились к «старой» иммигрантской группе.
Несмотря на успех некоторых представителей второго поколения поселенцев, к концу века большинство ирландцев по-прежнему принадлежало к рабочему классу. Однако многие ирландцы добились значительных успехов на политической арене. Они осуществляли политическую деятельность преимущественно на муниципальном уровне, функционируя как одно из звеньев политической машины и горнодобывающей системы.
В сравнении с другими иммиграционными группами русская иммиграция была одной из самой малочисленной. Политическая эмиграция переплеталась с обычной, трудовой. Русский писатель и публицист Н.Е. Славинский еще в 1870-х гг. отмечал: «Русская эмиграция в Америку не может быть поставлена в параллель с эмиграцией других европейских народов…».
В качестве прототипов некоторых персонажей В.Г. Короленко выступили бывшие русские эмигранты в Америку и участники народнического движения Я.О. Девятников и И.Л. Линев. С последними писатель познакомился в годы ссылки.
Каждый персонаж изображает свое отношение и способ выживания. Кто-то смешивается с толпой и готов на все, ради легкой наживы и простой жизни. Кто-то ищет родной дом на чужой стороне и по сути уезжает только ради смены декораций, осознавая бессмысленность переезда. Кто-то встречает добрых людей, и начинает строить свою большую счастливую свободную жизнь на новых землях.
Произведение «Без языка» В.Г. Короленко не дает четкой оценки жизни эмигрантов в Америке, а лишь показывает разные стороны данного этапа жизни человека.
Примечательно, что в произведение В.Г. Короленко описывается не только жизнь переселенце из Восточной Европы, но и жизнь таких переселенцев, как на пример, Ирландцев. Тут мы можем сравнить как разные народные группы адаптируются к жизни в Америке.
Также можно сделать вывод о том, что нет единой модели поведения эмигранта. Каждый человек уникален, со своим уникальным характером, что определяет его линию поведения в произведение. Данная тема широко раскрыта В.Г. Короленко.
Тема свободы также раскрыта в произведение. Оно представляется как что-то эфемерное, однако главный герой видит в эмиграции именно её.
Журналистика в кино
На протяжении XX в. профессия журналиста становится массовой, начинается широкое распространение профессионального журналистского образования, в связи с этим определенное сообщество чувствует необходимость в регламентации неких норм работы с целью саморегулирования. Это происходит как в СССР, так и в США: зарождается журналистское образование, появляются первые кодексы профессиональной этики журналиста и профессиональные организации, учреждаются профессиональные издания для журналистов.
Журналистика как средство массовой информации является частью общественных институтов и представляет собой деятельность по поиску, сбору, обработке и распространению социально значимой информации в масс-медиа. Средства массовой информации включают газеты и журналы, телевидение, радио и, реже, кино.
Кинематограф в связи с принадлежностью к экранной культуре, несомненно, стимулирует интерес у аудитории к журналистской профессии и просвещает ее, рассказывая о тонкостях работы журналистов. Кроме того, фильмы о журналистах предлагают подробный обзор деятельности СМИ, а также призывают аудиторию к диалогу о вопросах их работы. Это доказывает и большое количество рецензий на фильмы о журналистах на таких сайтах, как «Кинопоиск» и IMDb, даже несмотря на то, что множество фильмов выходило еще в середине XX в.
Кино о журналистах является наиболее репрезентативной разновидностью медиакритики для массовой аудитории. Кинематограф относится к экранной культуре, которая является одним из самых эффективных механизмов манипуляции человеческим сознанием. Индивид, созерцая фильм, интерпретирует его в контексте своего духовного мира, что приводит впоследствии к изменению его образа мысли.
Экранная культура представляет собой некую совокупность образов, существующих по законам построения мифа. Она обращается к знакомым архетипам и ценностным представлениям аудитории, которые легко усваиваются на бессознательном уровне.
Американские исследователи образа журналиста в поп-культуре считают, что в основе всех американских фильмов о работе прессы лежит дуальное деление образов журналистов на heroes и scoundrels – «героев» и «злодеев». Вокруг этих образов строится сюжет и основной посыл фильма. В связи с этим американский кинематограф двояко изображает журналистов. С одной стороны, он возвышает профессию, укрепляет и поддерживает мифы и идеалистические представления о роли прессы, ее центральном месте в жизни и развитии демократии. С другой – кинематограф поднимает темы злоупотребления свободой слова, пренебрежения своими основными функциями в погоне за сенсациями, громкими заголовками, тиражами и продажами.
Важной составляющей проблемы пересечения журналистики и кино является документалистика. Документалистика – это старейший вид искусства, который берет свое начало еще с братьев Люмьер. Неигровое кино существует в разных формах. И оно подобно хронике – прямая летопись, документ, публицистика, в нем всегда есть анализ острейших вопросов на злобу дня, важных для всего общества. И это сближает две сферы деятельности.
Документалистика определяется большинством авторов как форма аудиовизуального искусства, основанного прежде всего на основе реальности, поэтому от художественных фильмов он отличается отсутствием постановочных съемок или актерской игры.
Документальные фильмы, в зависимости от ситуации и типа, выполняют разные функции: информационные, публицистические, научно-популярные, образовательные, развлекательные, художественные, пропагандистские и т. д.
На наш взгляд, документальное кино как жанр ближе к искусству, и об этом говорит ряд фактов. Во-первых, документалисты очень редко полностью отказываются от постановочных съемок, то есть они все-таки «преобразуют» объективную реальность, а не просто «отражают» ее. В свою очередь, следование точным фактам – это важный критерий для журналистики. Во-вторых, большое количество документальных фильмов было создано для удовлетворения эстетических и неинформативных потребностей и, следовательно, они ближе к выполнению функций искусства, а не журналистики, для которой естественно удовлетворение информационных потребностей.
Документальное кино является своеобразной лабораторией художественного кинематографа. Именно в документальном кино всегда шёл поиск, разработка киноязыка, достижения которого переходили в кино игровое. В документальных жанрах работать сложнее: нет актёра, лишь герои повествования. Именно документалистика предшествовала всегда подъёму игрового кино, насыщая его злободневностью, поисками выразительности, буквально вторгаясь стихией реальной жизни в очерченные постановочные рамки площадки, кадра. О целях и задачах киноискусства лучше всего сказал Андрей Тарковский: «Кино – запечатлённое время».
Специфику, особенности документального фильма легче понять, сравнив его с телевидением. Телевидение, конечно, широко использует этот жанр. И телевидение уже давно не только отражает действительность, но и пытается представить ее в нужном свете. Поэтому под видом документального фильма на телевидении представлены псевдoдокументальные истории, героями которых чаще всего являются «звезды», чьи истории можно использовать как средство маркетинга и пропаганды. Однако мы склонны следовать оптимистичному прогнозу и можем предположить, что сеть Интернет дает документальному фильму новую жизнь.
В США снимается множество фильмов, идеализирующих журналистскую профессию. Они показывают, что в их стране царит настоящая демократия и свобода слова, символом которых являются журналисты. Они свободны, и никакие политические или экономические интересы сильных мира сего не могут на них повлиять. Например, в фильме «Китайский синдром» (1979) показано, как журналисты обнаруживают, что большая корпорация скрыла от общества информацию об опасной аварийной ситуации на одной АЭС, чтобы получить лицензию на строительство новой. Не обращая внимание, на давление, оказываемое на журналистов, они самоотверженно продолжают свое расследование. Так, через образ журналиста и журналистики возможно косвенно создавать и образ целой страны.
В сегодняшнем мире сфера искусства и культуры оказывает важное влияние на формирование общественного мнения, в том числе и о представителях профессии. Показанные на экране векторы этического выбора журналистов помогут сформировать представление об отношении к этой профессии в обществе в целом и разобраться в «иерархически-уровневой личности журналиста». Зачастую журналист используется в фильмах только в качестве второстепенного персонажа, причем нередко это собирательный и стереотипный образ из черт, которые раздражают обывателей в журналисте – назойливость, стремление любой ценой заполучить сенсацию, заголовок.
Таких персонажей сложно анализировать: они лишены глубины, а их образ используется лишь для фона, чтобы осложнять жизнь непосредственно главным героям, создавать им препятствия, которые необходимо преодолеть. Однако есть множество фильмов, где главным или одним из главных героев выступает сам журналист. Здесь также журналист далеко не всегда положительный персонаж, однако ему уделяется куда больше эфирного и сценарного внимания, зритель может увидеть его мотивацию, его моральные ориентиры и выборы. Анализ подобных персонажей как пример деонтологии в журналистике будет более релевантным.
Принятие ключевых решений и выборов персонажей прежде всего зависит от того, символизируют ли они положительную или отрицательную стороны журналистики. Так, журналист-герой всегда поставит профессиональные интересы выше собственных, а журналист-злодей, напротив, исходит из своих потребностей и желаний. Черты, присущие двум архетипам – журналиста-героя и журналиста злодея, в американском кинематографе анализируются П. Р. Корыхаловой: «Журналист-герой борется за правду, отстаивает свое право на свободу слова, он готов сесть в тюрьму ради защиты своего источника и рискует жизнью ради общественного интереса. Журналист-злодей готов манипулировать, шантажировать ради сенсации, ради тиража или рейтинга, ради собственной выгоды. Журналист-злодей – это чаще всего автор колонки светских новостей, папарацци или же амбициозный телерепортер. Он использует журналистику в собственных тщеславных целях ради построения карьеры или получения признания».
Искусство, в частности кинематограф, отражает настроение времени. Арт-журналистика в разной степени расшифровывает произведения, которые репрезентируют общественное отношение к реальности. Выборочно информируя аудиторию, СМИ опосредованно создают спрос на кино. Эти факторы делают актуальным исследование того, как российские СМИ в условиях нестабильности в стране освещают процессы кинематографа. Ведущие сегодня источники информации о кино – общественно-политические и арт-СМИ, можно соотнести их с массовым и критическим направлением в арт-журналистике. При этом наибольший охват и популярность имеет первый источник.
Общественно-политические СМИ реализуют массовый тип арт (кино)– журналистики. При данном подходе материалы носят выраженный информационный характер, имея своей главной целью оповестить аудиторию о выходе в прокат нового фильма и простимулировать поход в кинотеатр.