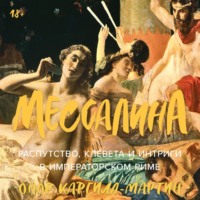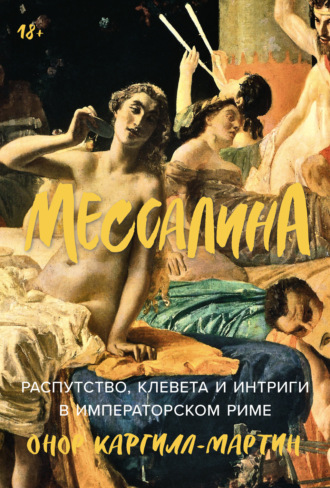
Полная версия
Мессалина: Распутство, клевета и интриги в императорском Риме
Из этих разнородных источников можно воссоздать удивительно богатую картину мира, в котором жила Мессалина; его законы, социальные нормы, политические институции и родовые связи, его экономику, его облик, идеалы и тревоги. Поняв обстановку, в которой жила Мессалина – и в которой были написаны первые истории ее жизни, – мы сможем поставить вопрос, правдоподобны ли рассказы о ней, а если это не так – исследовать предрассудки и скрытые мотивы, которые могли лежать в основе их создания.
Этот процесс кропотливый, но вместе с тем многообещающий. Иногда выдумки, которые общество сочиняет о себе, говорят нам об этом обществе не меньше, чем факты. А порой и больше. Реальные события могут происходить и случайно, но в мире, где была распространена устная история, а письменные принадлежности были дороги, создание легенды требовало согласованных усилий – сознательных или бессознательных.
Рассказы о Мессалине все как на подбор. Она расправляется с одним из самых богатых и влиятельных мужчин Рима, потому что ей нравится его сад; убивает мужчин, отказавшихся с ней переспать; бросает вызов самой скандальной проститутке Рима, соревнуясь с ней в двадцатичетырехчасовом марафоне на сексуальную выносливость – и побеждает; замышляет заговор с целью свергнуть императора и открыто выходит замуж за своего любовника, пока ее мужа нет в городе.
В противоположность образу «Мессалины» – женщины, целиком определяемой через сексуальность, – сформировавшемуся впоследствии в западной культурной традиции, реальная Мессалина была неменьшей силой в политике, чем в сексе. Предполагаемые интриги императрицы, ее внезапное падение и сверхэффективный процесс уничтожения памяти о ней после ее смерти немало говорят о внутренних механизмах новой придворной политики, сложившейся при переходе Рима от республики к империи, и в этом процессе, как я собираюсь показать, Мессалина сыграла ключевую роль. Происходящие перемены приводили в ужас современных ей историков – выходцев из старого сенаторского сословия. Политика теперь была им неподвластна: темные и скользкие дела, вершившиеся за закрытыми дверями, определяемые личным соперничеством и внутренней борьбой фракций, осуществлялись через предполагаемые отравления и ложные обвинения, а не через публичные собрания и дебаты.
Этот процесс в наши дни беспокоит нас не меньше. Избрание Дональда Трампа в 2016 г. должно было развеять миф – столь модный в двадцатом столетии, – что историю можно объяснить системно, не обращаясь к индивидуальному, иррациональному и эмоциональному. В Белом доме Трампа характер, эго и личные связи, несомненно, повлияли на ход президентства. Не стану пытаться делать бойкие заявления о том, что история Античности остается жизненно важной для нашего понимания современной политики – она не так уж актуальна, она интересна (что лучше), и в основном новые глобальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, требуют новых решений. Скорее, наш опыт современной политики личности должен напомнить нам, что нельзя недооценивать роль личного темперамента, любви, похоти, семейных связей, ревности, предрассудков и ненависти как движущих сил реальных исторических перемен. Ученые, по большей части мужчины, долгое время игнорировали Мессалину как объект серьезного исследования, отмахиваясь от исторических свидетельств о ее жизни как от не внушающих доверия и от нее самой – как от не представляющей никакого интереса шлюхи. Но я постараюсь показать, что ее история играет центральную и неотъемлемую роль в истории ее эпохи; она заставляет нас встретиться лицом к лицу со всеми не поддающимися количественной оценке иррациональными факторами, которые определяют этот период римской политической истории.
Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, пытаясь понять Мессалину, следует рассматривать как часть ее истории и часть истории женщин в Античности вообще. При всем своем богатстве дошедший до нас от Античности литературный корпус практически не включает женских голосов. Сохранились фрагменты творчества поэтесс Сапфо и Сульпиции, но в общем и целом слова великих женщин античной истории и мифологии – грозных, могущественных женщин, таких как Елена, Медея, Антигона, Пентесилея, Артемизия, Лукреция, Клеопатра, Ливия, Боудикка, – написаны мужчинами. Горькая жалоба Медеи, что «между тех, кто дышит и кто мыслит, / Нас, женщин, нет несчастней», принадлежит перу Еврипида; призыв Боудикки к оружию сочинен Тацитом{5}. Вновь и вновь мы обнаруживаем, что эти женские персонажи превращаются либо в образец совершенства, либо в кошмар женского рода на службе идеи автора-мужчины.
За последние две тысячи лет мы так и не смогли полностью избавиться от этой тенденции – нашей культуре до сих пор, по-видимому, непросто иметь дело с женской сложностью. Современные женские персонажи и теперь гораздо чаще, чем их мужские аналоги, предстают черно-белыми; в культурном сознании находится меньше места для сложной героини, чем для сложного героя.
Женщины, чьи слова записаны авторами мужского пола, – исключения; чаще женщины античной истории не говорят вообще, и о них не говорят тоже. Женский идеал в античном мире подразумевал непритязательность и скромность; в греческих судах просто назвать женщину по имени в публичной речи было все равно что назвать ее шлюхой{6}. Вот что было написано на надгробии женщины по имени Мурдия в I в. н. э.:
…похвалы всем хорошим женам обычно бывают просты и сходны, так как их естественные добрые качества ‹…› не требуют особенного разнообразия в описании. Для нее достаточно делать то, что делает всякая хорошая жена, чтобы снискать достойную репутацию. Непросто, в конце концов, женщине снискать новые похвалы, когда в ее жизни так мало разнообразия. Поэтому нам надлежит восславить их общие добродетели… моя дражайшая мать заслужила величайшую похвалу из всех, ибо в скромности, честности, чистоте, послушании, прядении, трудолюбии и верности она не отличалась от всякой другой достойной жены и безусловно являла собой ее образ{7}.
«Хорошая» женщина, занятая домашними обязанностями, не представляла интереса для большинства греческих и римских авторов – поэтому они ее просто не упоминали. За пределами мира элиты молчание усугубляется. Жизнь бедных женщин – будь то рабыни, жены ремесленников или проститутки – нам приходится реконструировать по осколкам керамики, потертым пряслицам, следам огня от очагов на античных полах и обрывкам оскорбительных надписей на стенах.
Тот факт, что мы так мало знаем о жизни Мессалины до брака, что даже не можем уверенно датировать ее рождение, не аномальный случай исторического упущения, он указывает на культурную установку: женщины просто не представляли интереса до тех пор, пока их жизнь не пересекалась с жизнью мужчин. Эта установка была столь глубинной, что отразилась в языке: ни в древнегреческом, ни в латыни нет отдельного термина для обозначения незамужней взрослой женщины. Безвестность и безгласность «настоящей Мессалины», которой ни в одном ее жизнеописании не предоставляется прямая речь, отражает безвестность и безгласность подавляющего большинства античных женщин.
Очернение Мессалины – самый наглядный пример того, как опасно проявлять женское начало в условиях мизогинного патриархата, который мы называем колыбелью западной цивилизации, демократии и свобод. Но нервозность по поводу влиятельной женщины – хуже, молодой влиятельной женщины – еще хуже, молодой влиятельной сексуальной женщины, – осязаемо сочащаяся из каждой фразы, написанной про Мессалину, это не просто хорошее введение в реалии античных предрассудков. Она остается узнаваемой для современного читателя. Знакомы и рефлекторные реакции, вызываемые этой тревожностью; сексуальный скандал, осуждение женского бесстыдства, изображение женщины эмоционально нерациональной. История Мессалины – насколько ее возможно воссоздать – в некоторых отношениях очень современная: это история женщины, осмелившейся добиться власти в мужском мире и пострадавшей от последствий этого выбора.
Помимо актуальности фигуры Мессалины для современного мира, важно восстановление ее истинного места в историческом нарративе. Ее история – не притча о претерпевшей несправедливость женственности; Мессалина – не просто невинная жертва в женоненавистническом нарративе. Она была сформирована той жестокой патриархальной системой, в которой жила и действовала и которую порой увековечивала.
Ее история – это в некотором смысле история укрепления императорской власти в середине I в. н. э. и конституционного преобразования Рима из республики в то, что было монархией по всем признакам, кроме названия. Август установил автократию и посеял семена династической системы – но по-настоящему ловкий его ход состоял в том, что он ограничил скорость этой трансформации и ее проявления. Ситуация была все еще неопределенной, когда Мессалина и Клавдий пришли к власти в 41 г. н. э., лет двадцать пять спустя после смерти первого императора Августа. В качестве императрицы Мессалина станет активной участницей неспешной революции римского политического ландшафта, проложив новые пути реализации власти, которые эксплуатировали или обходили старые, чисто мужские институты римской общественной жизни. Она создала новые модели женской власти, которые будут использованы ее последовательницами и которые помогут определить римские представления о том, что значит быть императрицей.
Мессалина, как я утверждаю, была важнейшей фигурой в истории имперского Рима I в. Наша одержимость ее половой жизнью заслоняет этот факт – в ущерб не только памяти о ней, но и нашему пониманию этого периода.
Прелюдия
Античные хроникеры Мессалины
Большая часть известных сведений о жизни Mессалины исходит из серии письменных источников на латыни и греческом, составленных в следующие столетия после ее смерти, основные среди них – это «Анналы» Тацита, «Жизнь двенадцати цезарей» Светония и «Римская история» Диона Кассия. Тацит и Светоний были почти современниками, писавшими на заре II в. н. э.; Дион писал около века спустя, на рубеже II‒III вв. Каждый труд написан в собственном формате, и у каждого автора собственные предубеждения, что необходимо понимать, прежде чем мы начнем разбирать их представления о Мессалине. Разумеется, есть и другие источники, упоминающие Мессалину, но к ним мы будем обращаться по мере необходимости.
Публий Корнелий Тацит родился всего через несколько лет после смерти Мессалины, в середине 50-х гг. н. э. Его происхождение не вполне ясно, но он, по-видимому, был выходцем из семьи провинциальной знати, жившей на территории современной Северной Италии или Южной Франции; его родители безусловно обладали достаточным богатством и связями, чтобы дать сыну лучшее образование не где-нибудь, а в Риме. Тацит подавал надежды и скоро занялся общественной деятельностью при императоре Веспасиане, удачно женился, получал магистерские должности и, по-видимому, в начале 80-х гг., при императоре Тите, вошел в состав сената. Он поднимался по службе – тирания Веспасиана не помешала его карьере – и в 97 г. н. э. стал консулом.
Как многие из его собратьев-сенаторов, Тацит не был чужд литературных стремлений, но после своего консульства он обратился к истории всерьез. Его первая книга, «История», охватывает период между падениями двух тиранов – Нерона в 69 г. и Домициана в 96 г. В предисловии к этому труду Тацит обещал посвятить следующий труд более современной истории правления Нервы и Траяна, но, когда до этого дошло дело, переключился на еще более далекое прошлое, чтобы написать то, что и поныне остается лучшей историей Юлиев-Клавдиев, первой и самой скандальной династии Рима.
«Анналы», как называлось это сочинение, были созданы после пребывания Тацита на посту губернатора провинции Азия, вероятно на рубеже 110‒120-х гг. н. э. По завершении эти шестнадцать или восемнадцать книг составили непрерывный рассказ о периоде между воцарением Тиберия и низложением Нерона. В предисловии Тацит признавал, что «деяния Тиберия и Гая[3], а также Клавдия и Нерона, покуда они были всесильны, из страха пред ними были излагаемы лживо, а когда их не стало – под воздействием оставленной ими по себе еще свежей ненависти». Теперь, утверждал Тацит, он напишет историю этих времен «без гнева и пристрастия, причины которых от… [него] далеки»{8}.
Стремление Тацита к объективности было похвально, но нереализуемо. К тому времени, когда Тацит засел за «Анналы», он был сенатором уже лет сорок – более половины своей жизни. Его сенаторский статус был центральным для его идентичности, особенно потому, что он добился этого статуса сам, как novus homo (новый человек) из рода провинциальных всадников. У него тоже был собственный опыт тирании, при деспотическом правлении Домициана, однако этому императору Тацит был обязан крупнейшими достижениями своей карьеры – факт, который ему приходилось признавать, и, вероятно, он думал об этом с чувством вины. История Юлиев-Клавдиев была историей превращения Рима из сенаторской республики в автократию – Тацит никоим образом не мог быть нейтральным.
Тацитовы темы тирании, династии и узаконенной коррупции вплетены в самую структуру «Анналов». Тацит начинает повествование не с правления Августа, а с воцарения его преемника Тиберия – в момент, когда отпадают всякие сомнения в том, что Август создал не просто систему единоличной власти, но квазимонархическую династию. Та же самая тема отражается в противоречии между формой и содержанием у Тацита. «Анналы» написаны, как и предполагает название, в анналистическом формате, где повествование разбито по годам, представленным именами действующих консулов. Это была традиционная форма римской историографии, предназначенная для того времени, когда события года контролировались выборными сенатскими магистратами. Используя эту структуру, чтобы рассказать историю, в которой все чаще правят бал личные причуды и придворные интриги, Тацит вновь и вновь привлекает наше внимание ко лжи и лицемерию Ранней империи.
У Тацита была точка зрения, которую он доказывал, и история Мессалины могла оказаться очень полезной для него. Ее власть как императрицы (совершенно неконституционный титул, не имевший республиканских прецедентов) демонстрирует, насколько Рим был близок к монархии и как далеко он ушел от сенаторского правления. Слухи о том, что она использовала эту власть для утоления собственной жадности, капризов и сексуальной ненасытности, прекрасно совпадали с версией об опасной нестабильности и коррупции новой придворной политики. История Мессалины была слишком заманчивым примером, чтобы Тацит мог рассказывать ее беспристрастно.
Есть и более практическое препятствие для использования Тацита в качестве источника: сохранилась лишь часть «Анналов», а книги 7–10, охватывающие целиком период правления Калигулы и начало правления Клавдия, утрачены полностью. Тацит не оставляет нам никаких сведений о восхождении Мессалины; в уцелевшей части его повествования мы встречаем ее непосредственно перед ее низвержением.
Светоний, скорее всего, родился около 70 г. н. э. в семье всадников, ведущих свою родословную от Гиппона Регия (на территории современного Алжира). Он был всего лишь на поколение моложе Тацита и, будучи протеже своего друга Плиния Младшего, мог быть даже знаком с ним, но их профессиональные пути разошлись. Вместо того чтобы сделать карьеру сенатора, Светоний поступил на службу в императорскую администрацию в качестве литературного советника, библиотекаря и секретаря по переписке при императорах Траяне и Адриане, откуда в 120-е гг. был уволен (за какую-то неизвестную провинность).
Интеллектуальные интересы Светония отличались широтой, и он писал труды на самые разнообразные темы – от «О знаменитых гетерах» до «Об именах ветров». Однако больше всего его интересовал жанр биографии, и здесь речь пойдет о «Жизни двенадцати цезарей» – императоров от Юлия Цезаря до Домициана. В то время – может быть, еще больше, чем в наши дни, – биография была особым жанром историографии; рассказы о знаменитых людях, как достойных, так и внушающих ужас, служили дидактическим целям, и их изложение подчинялось сложившимся жестким структурным принципам.
Как биографа Светония интересовали в первую очередь его персонажи. Он обладал знаменитым чутьем на анекдоты, а его жизнеописания исследуют в равной степени характеры и события. Их содержание определяется также античными представлениями о том, что такое мужчина, а женщины появляются в повествовании лишь тогда, когда они непосредственно влияют на становление того или иного императора или помогают раскрыть его образ. Если Тацит обращается к портрету Мессалины, чтобы показать моральные и политические условия ее времени, то Светония интересует главным образом то, как она отражает нравственность и личность своего мужа.
Хотя сенатор Тацит и происходивший из сословия всадников Светоний, должно быть, по-разному воспринимали себя, свою принадлежность и литературные цели, оба писали в сходных условиях. Они вращались в одних и тех же кругах – имели связи с Плинием Младшим и императорскими дворами Траяна и Адриана – в начале II в. н. э., в эпоху, когда активно обсуждались темы тирании и хорошего правления, тогда как новая правящая династия активно стремилась противопоставить себя деспотизму и нестабильности предшественников.
Наш третий автор, Дион Кассий, писал совершенно в иной обстановке. Он родился в середине 160-х гг. н. э. в Никее (северо-запад современной Турции) и приступил к своей «Римской истории» только в начале III в. н. э. Жил он в менее стабильные времена, чем те, что предоставили Тациту и Светонию простор для научной деятельности: они были свидетелями начала римской эпохи знаменитых «пяти хороших императоров»; Дион же увидел ее завершение со смертью Марка Аврелия в 180 г. н. э.[4] Последующие годы ознаменовались чередой тирании, гражданских войн и кризисов в провинциях, и на протяжении большей части этого времени Дион, в силу своей профессии, находился в центре событий.
Хотя Дион был выходцем из влиятельной семьи в Вифинии, он (как ранее его отец) сделал успешную сенаторскую карьеру в Риме. Он служил военачальником, управлял провинцией, дважды побывал консулом и, наконец уйдя в отставку в 229 г., вернулся в свою родную провинцию Вифиния и Понт. Непростая культурная идентичность Диона нашла отражение в его произведении: это история Рима, часто продиктованная сенаторскими заботами о государстве, свободе и тирании, но написанная на языке и в рамках литературной традиции классической Греции.
В отличие от Тацита и Светония, Дион не выбрал для себя поджанр исторической литературы (анналистический, биографический и т. д.), который накладывал бы ограничения на его тематику или структуру текста. Он взялся писать историю Рима от прибытия легендарного Энея в Италию до его собственной отставки в конце третьего десятилетия III в. н. э. Его труд – общим счетом 80 книг – занял у него около двадцати двух лет: десять на исследования, двенадцать на написание. Структура в целом хронологическая, но Дион позволил себе больше гибкости, чем Тацит: он вводит недатированные анекдоты, когда они лучше всего характеризуют развитие его персонажа, или объединяет нити повествования разных лет в один раздел в интересах краткости и ясности.
Не вся «Римская история» Диона сохранилась до наших дней. Та часть труда, которая охватывает период с 69 г. до н. э. по 46 г. н. э. (туда входит почти все царствование Мессалины), сохранилась такой, какой ее написал Дион, – в традиции непрерывно переписывавшихся манускриптов. Остальные книги дошли до нас лишь частично в выдержках и кратких пересказах, сделанных более поздними авторами.
Ни один из наших трех основных историков не был непосредственным современником Мессалины, и их рассказы о ее деяниях явно не свидетельства из первых рук. Скорее, эти авторы полагались на совокупность утраченных источников, на которые они дают прямые ссылки редко и с удивительной непоследовательностью. Некоторые из них были официальными: например, acta diurna, где ежедневно фиксировались официальные мероприятия, судебные процессы и речи, и acta senatus, архив протоколов собраний сената, который был доступен Тациту и Диону, так как они были сенаторами. Всадник Светоний мог не иметь прямого доступа к acta senatus, но у него было другое преимущество: он служил секретарем и архивистом при императорах Траяне и Адриане – и эта должность давала ему привилегию доступа к частным императорским запискам и корреспонденции, которые он порой цитирует прямо. Все трое также пользовались письменными свидетельствами современников – записями речей, недавними историческими сочинениями и автобиографиями – и обращались к устной традиции[5]. Например, Тацит, рассказывая историю падения Мессалины, заявляет: «Я передам только то, о чем слышали старики и что они записали»{9}.
Наконец, важно отметить, что римский взгляд на историю как таковую фундаментально отличался от нашего. В античном мире исторический труд предполагал в равной мере и реконструкцию исторической реальности, и упражнение в литературном творчестве, и внимание в этих текстах беззастенчиво уделяется персонажам, повествованию, обстановке, жанру, риторическим и текстуальным аллюзиям. Женские образы были особенно подвержены этим процессам нарративной манипуляции. Жизнь женщин была обычно хуже документирована, чем жизнь мужчин, – их поступки зачастую не принадлежали к числу тех, что попадают в официальные протоколы типа acta, а их власть почти всегда реализовывалась через частные каналы влияния – поэтому их истории было легче исказить. Творческий элемент римской историографии может многое предложить современному историку – при надлежащем анализе в литературных решениях римских историков можно почерпнуть немало информации об их идеях и пристрастиях, – но они могут ввести в опасное заблуждение, если их изобретательность окажется незамеченной.
I
Одна свадьба и одни похороны
Двор принцепса охватила тревога…
Тацит. Анналы, 11.28История падения Мессалины в изложении Тацита выглядит примерно так{10}.
Свадебные торжества в императорском дворце на Палатине были в полном разгаре. Уже наступила ранняя осень 48 г. н. э., но вечера в Риме все еще были достаточно теплыми для празднеств на открытом воздухе. Невеста была в традиционном красно-желтом покрывале, мужские и женские хоры возносили песнопения Гименею, богу брака, собрались свидетели, гостей чествовали и угощали. Не скупились ни на какие расходы, это было свадебное гулянье на века.
К несчастью, невеста была уже замужем. И что особенно прискорбно, человек, за которым она была замужем, являлся верховным правителем большей части известного мира. На увитом цветами брачном ложе в объятиях Гая Силия, красивого молодого патриция и будущего консула, возлежала Мессалина, императрица Рима и законная жена Клавдия, императора земель, простиравшихся от острова Британия до сирийских пустынь.
Едва ли Мессалина и Силий вели себя осторожно в своем любовном торжестве, и это, по выражению Тацита, «в городе, все знающем и ничего не таящем»{11}. Нигде эта врожденная римская склонность к сплетням не проявлялась так ярко, как при императорском дворе, разросшемся, богатом и преисполненном безжалостной конкуренции, где уже около восьмидесяти лет, с тех пор как он появился, слухи и скандалы всегда были вопросом жизни и смерти. И вот уже, когда Мессалина и Силий проспались от вина и секса, из Тройных ворот по Остийской дороге на юго-запад в Остию выехали гонцы.
В середине I в. н. э. портовый город Остия поддерживал жизнь Рима. Он был расположен примерно в 25 км к юго-западу от столицы, и именно там легионы рабочих ежедневно разгружали товары, прибывавшие со всего Средиземноморья и других стран, и складывали их горами на баржи, направлявшиеся вверх по Тибру, к многолюдному городу и его миллиону потребителей. Именно через Остию богатые римляне получали жемчуг из Персидского залива, испанское серебро, благовония из Египта, пряности из Индии и китайские шелка. Благодаря этим предметам роскоши город и его купцы невероятно разбогатели, но шла там и более важная торговля – та, от которой могла зависеть императорская корона и даже жизнь.
Вопрос поставок зерна – его привозили по большому торговому пути, благодаря которому миллион римлян мог кормиться с пойменных равнин Египта, – привел той осенью Клавдия в портовый город. Он собирался проконтролировать логистические цепочки и возглавить церемонии жертвоприношений, которые должны были обеспечить безопасность кораблей, отправлявшихся из Александрии с зерном из дельты Нила, чтобы предстоящей зимой городское население было должным образом накормлено и политически благонадежно. Вместо того чтобы появиться рядом с мужем в качестве первой леди, императрица Мессалина сказалась больной и осталась в Риме.
Гонцы, прибывшие к воротам Остии с вестями о «свадьбе» Мессалины и Силия, не рискнули приблизиться к самому императору. В конце концов, фраза «не убивайте гонца» становится не столько идиомой, сколько мольбой, если адресат управляет величайшей армией мира, а сообщение гласит, что его жена выходит замуж за другого. Вместо этого гонцы отправились прямиком к его советникам – Каллисту, Нарциссу и Палласу. Бывшие рабы императора, стремительно ставшие самыми близкими и влиятельными конфидентами Клавдия, они были в числе самых успешных игроков придворных политических игр, каких когда-либо видал Рим.