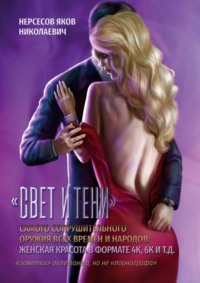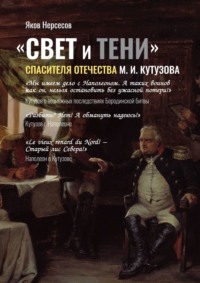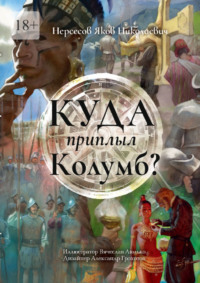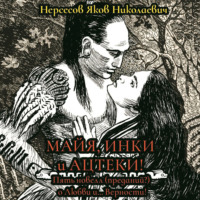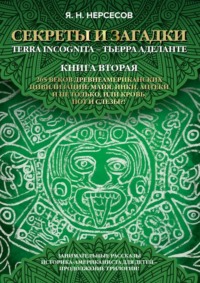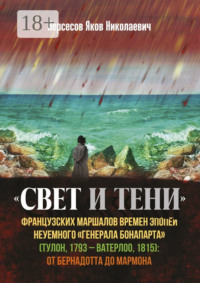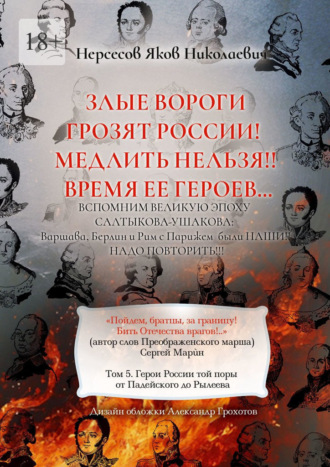
Полная версия
Злые вороги грозят России! Медлить нельзя!! Время ее героев… Том 5. Герои России той поры от Падейского до Рылеева
Потёмкин-Таврический, Григорий Александрович
(1739—1791) – генерал-фельдмаршал (2 февраля 1784 г.), Светлейший князь Таврический (1787 г.).
Родился 13 сентября 1739 г. в селе Чижово Духовщинского уезда Смоленской губернии в семье среднепоместного дворянина отставного полковника Александра Васильевича Потёмкина (-1746).
Рано потерял отца и был воспитан в Москве своей матерью Дарьей Васильевной Скуратовой, урождённой Кафтыревой (-1780).
Начальное образование получил в учебном заведении Иоганна-Филиппа Литке (Johann-Philipp Luetke) в Немецкой слободе.
30 мая 1755 г. записан в Конную гвардию.
В том же году поступил в Московский университет.
В 1756 г. «за успехи в науках» удостоен золотой медали.
В июле 1757 г. в числе 12 лучших студентов представлен императрице Елизавете.
15 августа 1757 г. – капрал.
31 декабря 1758 г. – гефрейт-капрал.
19 июня 1759 г. – каптенармус.
В 1760 г. перебрался в Санкт-Петербург.
В 1761 г. приступил к действительной службе в чине вице-вахмистра Конной гвардии и должности ординарца принца Георга Голштинского.
Принимал активное участие в государственном перевороте 28 июня 1762 г., чем обратил на себя внимание императрицы Екатерины II-й, которая наградила его чином подпоручика гвардии, сделала камер-юнкером и даровала 400 душ крестьян в Куньевской волости Московского уезда.
13 августа 1763 г., не покидая военной службы, занял пост помощника обер-прокурора синода.
19 апреля 1765 г. – поручик гвардии, исполнял казначейскую должность и надзирал за шитьём новых мундиров.
19 июля 1766 г. – командир 9-й роты Конной гвардии.
22 сентября 1768 г. пожалован в камергеры и в октябре отчислен от Конной гвардии «как состоящий при Дворе».
В 1769 г. отправился добровольцем на первую турецкую войну (1768—74).
Отличился в сражении под Хотином, за что 2 июля 1769 г. награждён чином генерал-майора, сражался при Фокшанах, Браилове, Журже, Рябой Могиле, Ларге, Кагуле, 17 мая 1771 г. разбил 4-тысячный турецкий отряд у Ольты, сжёг Цыбры и захватил множество турецких судов, после чего переправился через Дунай и отличился в сражении при Силистрии.
По свидетельству генерал-аншефа Голицына: «русская конница до сего времени ещё не действовала с такой стройностью и мужеством, как под командою генерал-майора Потёмкина».
10 июля 1774 г. – генерал-поручик.
В том же году прибыл в Санкт-Петербург, где стал морганатическим супругом Екатерины II-й (тайное венчание состоялось в церкви Большого Вознесения на Никитских Воротах в Москве) и по отзывам иностранных послов «самым влиятельным человеком в России». Екатерина родила Потёмкину дочь Елизавету, которая, как было принято, получила фамилию с отброшенным первым слогом – Тёмкина. Был сделан генерал-адьютантом, подполковником Преображенского полка и членом Государственного Совета, немного позднее награждён графским достоинством и назначен генерал-губернатором Новороссийского края, а 21 марта 1776 г. возведён австрийским императором Иосифом II-м в княжеское достоинство Священной Римской Империи.
Занимался вопросами южных границ России от Чёрного до Каспийского морей, составил план овладения Крымом, а также «греческий проект», предполагающий уничтожить Турцию и возложить корону нового Византийского царства на одного из внуков Екатерины II-й.
2 февраля 1784 г. – генерал-фельдмаршал, президент Военной Коллегии, шеф Кавалергардского полка, генерал-губернатор Екатеринославский и Таврический, провёл ряд рациональных реформ (уничтожил пудру, косички и букли, ввёл удобное обмундирование и лёгкие сапоги), построил флот на Чёрном море, способствовал выдвижению адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова. Приглашал колонистов, закладывал города, разводил леса и виноградники, поощрял шелководство, учреждал школы, фабрики, типографии и корабельные верфи,
В 1787 г. было предпринято знаменитое путешествие императрицы Екатерины II-й и австрийского императора Иосифа II-го на юг России, ставшее торжеством Потёмкина – Херсон, со своей крепостью, удивил даже иностранцев, а вид Севастопольского рейда с эскадрой в 15 больших и 20 мелких судов стал самым эффектным зрелищем.
При прощании с императрицей в Харькове Потёмкин получил почётный титул «Светлейшего князя Таврического».
С началом новой войны с Турцией в 1787 г. возглавил 1-ю Екатеринославскую армию (одновременно руководил действиями Черноморского флота).
В 1788 г. осадил и взял Очаков (трофеи – 300 пушек и мортир, 180 знамён, множество пленных), затем пополнил число войск и медленно продвигался к Днестру, не участвуя в операциях генералов Репнина и Суворова. Осадил и без боя захватил крепость Бендеры.
…Между прочим, Григорий Александрович был высокого роста, имел статную фигуру и красивое лицо, которое мало портил повреждённый в молодости глаз; имел противоречивую натуру, был известным женолюбом (жил даже со своими племянницами) и бонвиваном – «Во время обеда в стане Потёмкина играл оркестр, составленный из малороссийских, еврейских и итальянских музыкантов. Потёмкин очень любил музыку, но понимал её по своему. Музыкальные идеи у него были столь же своеобразные, как всё остальное. В оркестровку „Тебе Бога хвалим“ введены были, например, пушки: при стихе „свят, свят, свят“ по знаку дирижёра батарея из десяти орудий гремела беглым огнём. Солистов в Бендерах найти было, по видимому, трудно, но русский посол в Вене обещал князю прислать ему отменнейшего клавесинщика. Клавесинщик был и в самом деле недурной: это был не кто иной, как Моцарт»…
В 1790 г. получил титул гетмана Екатеринославского и Черноморского казачих войск и перенёс свой штаб в Яссы, откуда руководил кампанией 1790 г. Безупречно заботился о комплектовании и продовольствии действующей армии.
После новых успехов Суворова (которому поручал наиболее ответственные дела и предоставлял полную самостоятельность) в январе 1791 г. отправился в Санкт-Петербург, чтобы помешать возвышению нового фаворита Платона Зубова. Однако, личное отношение императрицы к Потёмкину изменились к худшему и он должен был покинуть столицу, где за четыре месяца истратил на пиршества 850 тыс. рублей, выплаченных из казны.
…Между прочим, «Питался Светлейший без воздержанности. Завтраков и обедов в день было – шесть. Ланжерон рассказывает, что в пору своей предсмертной болезни Потёмкин, трясясь от лихорадки, съел при нём за обедом огромный кусок ветчины, целого гуся, несколько цыплят и выпил неимоверное количество кваса, мёда и вин»…
После возвращения в Яссы деятельно вёл мирные переговоры, но болезнь помешала ему их закончить – 5 октября 1791 г. в степи в 40 верстах от Ясс Потёмкин умер от лихорадки в возрасте 52 лет.
Последними его словами были: «Вот и всё, некуда ехать, я умираю! Выньте меня из коляски: я хочу умереть на поле!».
Отзывы современников о Потёмкине весьма различны: одни называли его злым гением императрицы Екатерины, «Князем тьмы»; другие, в том числе сама Екатерина, великим и гениальным человеком (Державин писал о нём: «Одной рукой он в шахматы играет, другой рукою он народы покоряет. Одной ногой разит он друга и врага, другою топчет он вселенны берега»; Суворов говорил: «Он честный человек, он добрый человек, он великий человек: щастье моё за него умереть»).
После прибытия тела кавалера орд. Св. Георгия II-го кл. (1775 г.), Св. Георгия I-го класса (1788 г.), Св. Андрея Первозванного (25 декабря 1774 г.), Св. Владимира 1-й ст. (1782 г.), Св. Александра Невского (1774 г.), Св. Анны 3-й ст. (1770 г.), польских орд. Белого Орла и Св. Станислава, прусского орд. Чёрного Орла, датского орд. Белого Слона и шведского орд. Серафимов, а также украшенной алмазами шпаги (была прислана ему на золотом блюде с надписью «Командующему Екатеринославскою сухопутною и морскою силою, яко строителю военных судов») в Яссы, оно было анатомировано и бальзамировано.
13 октября 1791 г. состоялся первый погребальный обряд.
23 ноября 1791 г. тело Светлейшего князя было перевезено в Херсон и оставалось в склепе до 1798 г., когда по повелению Императора Павла I-го гроб был зарыт в землю, а склеп засыпан.
Потемкин, Григорий Александрович

[13 (?) 9.1739 г., село Чижово Духовищенского уезда, в Смоленщине – 5.10.1791 г. на дороге между Галацом и Яссами] – главный екатерининский орел, а заодно и главный покровитель Александра Васильевича Суворова.
Этот выходец из небогатой дворянской семьи, рано оставшийся сиротой, пригретый дальними родственниками в Москве – явление в истории России в своем роде уникальное.
Его дальний предок Петр Иванович Потемкин (1617—1700) был крупным дипломатом и посольствовал в Вене, Мадриде, Париже и Лондоне. Нам известны два его портрета, написанные за границей: в Испании – кисти Кареньо де Миранда (ныне музей Прадо в Мадриде) и в Англии – Генри Неллера (Эрмитаж). Петр Иванович был очень подкованным дипломатом: отлично знал как подать себя – посла царя московского – иностранным правителям и всячески подчеркнуть богатство и мощь России. Сегодня не исключается, что корни его рода могли быть из Италии, вплоть до древнеримских – от вождей самнитского племени, после поражения в гражданской войне Суллы с Гаем Марием, покинувших Апеннинский полуостров в I в. до н. э. Спустя века их потомки оказались в Польше, а в XV в. перебрались в Россию. Впрочем, скорее всего, все это сильно смахивает на… предание, без которого редко обходятся биографии знаменитостей.
Отец нашего героя – Александр Васильевич Потемкин (ок. 1673—1753) долго служил в армии (участвовал, как в победоносной Полтавской битве, так и в бесславном Прутском походе), имел ранение и вышел в отставку подполковником лишь 13 октября 1742 г. Любопытно, но Григорий был его единственным сыном (дочерей было четверо) от второго брака с овдовевшей бездетной красавицей Дарьей Васильевной Скуратовой, в девичестве Кафтыревой (ок. 1704 – после 1776 г.?). Считается, что родители Потемкина стоили друг друга. Отец был человеком решительным, болезненно щепетильным, скорым на решения и крутым на расправу. Его мало интересовало, что о нем думали окружающие. Весьма похож в этом был и его сын Григорий. Немало полезного почерпнул сын и от своей матери, тоже не отличавшейся робостью и умевшей верховодить – «по ее уставам и одевались и наряжались, и сватались, и пиры снаряжали» все вокруг. В общем, для окружающих уездных дворян она была своего рода «столичной штучкой», которой стремились подражать.
Фигура этого, одного из самых выдающихся государственных мужей российской империи, крайне мифологизирована.
Так исторически сложилось, что Григорий Александрович Потемкин чаще всего представал в литературе в образе «Злого Гения», «Князя Тьмы» и прочее-прочее! Во многом этот посыл шел от придворной группировки братьев Паниных и Воронцовых – влиятельнейших вельмож из окружения, антагонистически настроенного к своей властной матушке, уже давно совершеннолетнего Великого Князя Павла Петровича, чей отец был свергнут с престола его крайне амбициозной супругой-немкой Екатериной Алексеевной – в одночасье превратившейся в Екатерину II, а потом и… Великую.
Тайный муж и фактический соправитель Екатерины II, выдающийся строитель необъятной российской империи, Светлейший князь Потемкин-Таврический в основном известен широкой публике своими легендарными «потемкинскими деревнями» (одним из самых громких «мифов» в истории русской культуры!) и разговорами о мелочных конфликтах с «иконой № РАЗ» русского полководческого искусства А. В. Суворовым (в частности, под Очаковым летом 1788 г. и через год после блестящего штурма последним Измаила, когда он удалил от торжеств главного героя взятия крепости). Более того, над его исполинской (в прямом и переносном смысле) фигурой (правда, не без недостатков) довлеет образ сибарита, проводящего уйму времени в хандре и лени на любимом диване, постоянно оттиравшего от заслуженной славы то необузданного и самовольного «российского Нестора» Петра Александровича Румянцева, то «русского Марса», неуживчивого и заковыристого Александра Васильевича Суворова.
На самом деле он очень ценил обоих, но действительно не мог с ними ужиться.
Хотя последнего, несмотря на все выверты характера, светлейший князь двигал в первый ряд руководителей армии во время судьбоносной для России 2-й русско-турецкой войны 1787—1791 (или, как ее еще порой, называют историки 2-й «екатерининской» или «потемкинской»). Правда, было это очень нелегко: слишком много было у неистового Souwaroff откровенных врагов среди столь же амбициозных, но не столь ярко одаренных «братьев по оружию», а для него всего лишь, «коллег по кровавому ремеслу».
Григорий Александрович Потемкин отличался редким даром: умел он ломать судьбу о колено! Как мало кто другой в его галантно-бунташно-переворотошный век, когда русская гвардия раз за разом сажала на трон сметливых и красивых баб, «знавших как правильно расстилать нужных мужиков, чтобы потом ходить по ним в обуви на каблуках»! Сызмальства он отличался большими природными способностями и сообразительностью. Особо среди них выделялись скорочтение и феноменальная память. Он мог бегло просмотреть объемный фолиант и тут же пересказать сущность всего «прочитанного». Человек неординарный, он любил дарить, но не любил платить долгов. Когда о них ему напоминали, то очень сердился.
Григорий Александрович Потемкин успешно учился в частном училище немца Литке, а затем в Благородной гимназии при Московском университете (по началу даже получил золотую медаль), но в 1760 г. не доучился и покинул ее стены (то ли за прогулы его выгнали, то ли он сам ушел?). Очутившись в конной гвардии, глянулся одному из любимцев императора Петра III принцу Георгу Голштейнскому, став его ординарцем.
22-летним вахмистром Потемкин участвовал в дворцовом перевороте 28 июня 1762 г., выведя на пару с секунд-ротмистром Ф. А. Хитрово на присягу Екатерине Конно-гвардейский полк. Затем волею судеб, он «оказался» свидетелем одного из самых темных дел екатерининской эпохи – убийства императора Петра III в Ропше! Екатерина не забыла «услуг» Потемкина и одним из последних наградила и его, отписав ему 400 душ, два чина по полку и 10 тыс. рублей. Награда и рост в чинах (подпоручик и камер-юнкер) в ту пору – немалые. Водивший дружбу с всесильными в ту пору братьями Орловыми (Григорием, Алексеем, Федором и Владимиром – рослыми, как на подбор богатырями), он оказался при дворе.
Там Потемкин «отличился»: сидя на обеде напротив государыни, на ее вопрос по-французски, ответил ей по-русски, чем вызвал нарекания от какого-то важного сановника: «На каком языке государь предлагает речь поданному, на том самом он должен и ответствовать». Без смущения Потемкин возразил: «А я напротив того думаю, что поданный должен ответствовать своему государю на том языке, на котором может вернее мысли свои объяснить; русский же язык я учу с лишком 22 года». И все же, он явно выделялся среди гвардейских офицеров своей немалой образованностью, в частности, знанием греческого языка.
Не будучи военным до мозга костей, не чужд он был и военного ремесла. Осенью 1768 г. Потемкин оставил службу при дворе в гвардии поручиком и камергером, оказавшись в армии… генерал-майором! Подобный «маневр» мог быть только с ведома и лишь по личному указанию императрицы, судя по всему, уже давно «взявшей в разработку» перспективного красавца. Такой головокружительный прыжок по лестнице чинов вызвал нездоровый ажиотаж среди его завистников, тогда еще не столь многочисленных, как это случится, когда он окажется в полном фаворе. В 1-й армии генерал-аншефа князя А. М. Голицына он командует кавалерийским отрядом в авангарде генерал-майора князя А. А. Прозоровского.
2 июля он отличается в жарком деле под крепостью Хотин, когда чуть не лишился жизни: под ним убили лошадь. Командующий дает ему превосходную характеристику в своем рапорте императрице. Сменивший Голицына на посту командующего Румянцев, знавший толк в «бабских слабостях» и прозорливо догадывавшийся, что (неспроста гвардейский поручик был переведен в действующую армию… генерал-майором!) под его началом оказался будущий фаворит императрицы (любившей крутых мужиков с «длинными ключами»! ), вторит предшественнику, отмечая действия крутого мужика Потемкина под Фокшанами и Браиловым, Журжей и Рябой Могилой.
В результате 3 февраля 1770 г. Потемкин получает свой первый орден – Святой Анны, хотя и не самый престижный.
…Повторимся, что орден Св. Анны – нерусский по своему происхождению – был учрежден в 1735 г. гольштейн-готторпским герцогом Карлом-Фридрихом в память незадолго до этого скончавшейся супруги, Анны Петровны, обожаемой дочери Петра Великого. С начала 1740-х гг., когда в Россию прибыл гольштейнский наследный принц Петр-Ульрих, будущий российский император Петр III, орден стали вручать и русским подданным. Но серьезно он вошел в оборот лишь в 1797 г., уже при Павле I, а в эпоху 1812 г. имел 3 степени. Низшая, 3-я ст., выдавалась только за военные заслуги, зато 2-я и 1-я – могла быть наградой и за гражданские дела. Причем, Св. Анной 1-й ст. за исключением редчайших случаев среди военных награждались исключительно генералы…
Затем он оказывается под началом генерал-поручика князя Н. В. Репнина (1734—1801), которого позднее он обгонит и в чинах, и в положении при дворе, чем сделает того своим большим недоброжелателем.
Следующее жаркое дело на берегах Прута приносит ему III-й кл. (минуя IV-й!) наипрестижнейшего ордена Св. Георгия. «Григорий Александрович, доставьте нам пропитание наше на конце вашей шпаги!» – приказывает ему Румянцев и Потемкин образцово справляется с охраной тыловых обозов русской армии от назойливых татарских наскоков, пока она громит турок при Кагуле. Потом следуют удачные поиски на Измаил, Килию, Цембры. Затем он отражает превосходящие атаки на его силы под Турной и Силистрией. На пару с О.А. фон Вейсманом Потемкин отличается под Гуробалами. И наконец, спасает гренадер С. Р. Воронцова (1744—1832), попавших в окружение под все той же Силистрией.
Как результат: он нужен Румянцеву, а Румянцев – ему.
Суровый и властный Петр Александрович Румянцев осенью 1770 г. отправляет дельного и храброго военачальника ко двору, рассчитывая на его помощь при дворе в принятии нужных ему военных решений. Дело в том, что супруга фельдмаршала Е. М. Румянцева была всего лишь его глазами и ушами при дворе, но не более того.
За время проведенное в армии и на войне Григорий сделался еще более известен, чем до того при дворе.
Более того, Капризная и Изменчивая Девка по имени Фортуна поворачивается к нему лицом. Он возобновил свои старые связи в столице, в частности, с Григорием Орловым, в ту пору еще бывшим в силе и приглашается на первый праздник георгиевских кавалеров, который с тех пор стал традиционным. Кроме того, сама императрица оказывает ему очень ласковый прием (естественно, все это замечают!), благосклонно соглашаясь вести с ним… переписку! Причем, не официальную переписку, которая проходила в строго определенных протоколом случаях, но и частную, для которой не требовался официальный предлог!
Те, кому надо, в частности, дальновидный фельдмаршал Румянцев (окончательно), все поняли и сделали на Потемкина ставку, как на возможного выдвиженца на пост фаворита – посредника в общении с государыней-«матушкой». И он оправдал их надежды.
Окривевший еще в 1763 г. при невыясненных обстоятельствах (то ли из-за головотяпства сельского лекаря, то ли…; версий немало, причем весьма туманных!) на правый глаз, 35-летний генерал-поручик и георгиевский кавалер Григорий Александрович Потемкин сумел-таки покорить весьма и весьма любвеобильное сердце и охочее «до орошений лоно» 45-летней российской императрицы («бабе – сорок пять, баба – ягодка опять!»): расцвет физиологической разрядки перед климаксом и «всем остальным»…
С той самой поры он становится фактическим соправителем страны.
Их роман окутан многослойным флером слухов и небывальщины. Екатерина остро нуждалась в человеке, который был бы лично ей предан и всем обязан только ее милости. Ей нужен был фаворит, готовый оставить свою группировку и проводить линию, выгодную самой государыне, укрепляя, таким образом, лишь ее единоличную власть, которой подспудно угрожали все, кто входил в ближайшее окружение ее сына Павла, чье совершеннолетие грозило ей непредвиденными последствиями, если их во время не «купировать».
Таким человеком оказался член «партии» командующего Румянцева Г. А. Потемкин.
Его многолетняя безответная страсть, о которой Екатерина прекрасно знала, опыт государственной работы, сильные покровители, обширные связи в военной и чиновничьей среде говорили в его пользу. Более того, именно о Потемкине государыне-«матушке» постоянно нашептывала ее ближайшая подруга, знавшая толк в настоящих мужиках «с длинными и вострыми саблями», сестра П. А. Румянцева, Прасковья Александровна Брюс, представлявшая интересы брата при дворе.
Точкой отсчета начала их романа принято считать письмо императрицы от 4 декабря 1773 г., вызвавшее Потемкина с полей сражений к ней в столицу, после чего война для Григория закончилась. В самом письме об этом ничего не говорилось, но, написанное лично государыней, оно было весьма прозрачным намеком адресату, что ему представляется возможность стать «вельможей в случае», т.е. фаворитом.
Григорий – как и подобает крутому мужику – все понял правильно и по дороге в Петербург счел необходимым завернуть в Москву, чтобы заручиться поддержкой против братьев Орловых со стороны партии наследника Павла Петровича, очень влиятельных братьев графов Паниных: могущественного русского масона, воспитателя наследника Павла, Никиты Ивановича и его боевого брата, завоевателя Бендер, генерал-аншефа, одного из первых (после самой Екатерины!) обладателей ор. Св. Георгия 1-го кл. – Петра Ивановича. Последний видел Григория Александровича в деле – на войне и в обмен на обещание возвратить его – Петра Ивановича Панина – в большую политику, дал слово оказать выдвиженцу Румянцева посильную помощь при дворе в противовес своим недругам братьям Орловым и З. Г. Чернышеву. (Забегая вперед, скажем, что стороны выполнили взятые на себя обязательства!) Более того, крутой и неразговорчивый, но очень проницательный Петр Иванович точно подметил все особенности характера Григория Потемкина: «Сей новый актер станет роль свою играть с великой живостью и со многими переменами, если только утвердится». «Потемкин чертовски умен!» – говорил о нем сам Григорий Орлов, человек которому «выпала честь», будучи генерал-адъютантом, представить императрице своего по сути дела сменщика на главном посту в императорских покоях – в ее опочивальне.
Потемкин опять все правильно понял и отправился в Петербург.
Там он получил от императрицы многозначительный подарок – «духи Калиостро» – согласно учению модного в ту пору графа-авантюриста, руководящие чувствами людей. Более того, он сменил на посту екатерининского фаворита, предыдущего ставленника братьев Паниных, тихого и податливого Александра Семеновича Васильчикова (срок «дежурства» видного красавца и неутомимого секс-мустанга Григория Орлова в спальне государыни к тому моменту уже давно истек). Кроме того, он получил от 45-летней, здравой, рассудительной императрицы все, что может хотеть мужчина от женщины, вплоть до права вершить государственные дела, а также прилагающуюся ко всему этому… «вселенскую» зависть! Григорий Александрович так стремительно, абсолютно не соблюдая старшинства, вознесся на самую вершину политического олимпа российской империи, что повторимся, столь же быстро нажил себе массу влиятельных врагов!
…Кстати сказать, Григорий Александрович Потемкин вел себя как государь, не имея на то законных прав! Не потому ли он крайней раздражал большинство дворян, что как всякий временщик («вельможа в случае») «закрывал» своей могучей фигурой… прямой доступ к государыне-«матушке». Он был тем самым «псарем», который не только «не жаловал», но и не допускал к императрице…
Влияние новоиспеченного подполковника первого из четырех лейб-гвардейских полков (Преображенского, Семеновского. Измайловского и Конно-гвардейского) – Преображенского (полковником была сама Екатерина), генерал-аншефа, вице-президента Военной коллегии и прочее, прочее, было столь велико, что он потребовал от императрицы отчета (!) в ее отнюдь небезупречном поведении – она назвала его «Чистосердечная исповедь»! Со своей стороны Григорий погрузил ее в такую бездну страсти, ласки и заботы, что немолодая уже императрица помолодела и расцвела, как преображаются женщины, когда встречают мужчину своей мечты – вернее, Жизни! Ее холодный рассудок уступил зову души и тела. Она влюбилась, как только может влюбиться зрелая, давно все познавшая, 45-летняя женщина: «…Я отроду так счастлива не была, как с тобою…» В отличие от Григория Орлова, жаждавшего гласного и открытого брака с императрицей, Потемкин благоразумно согласился на тайный брак.