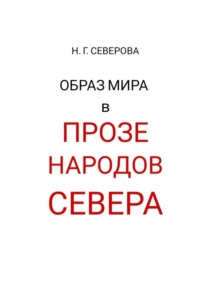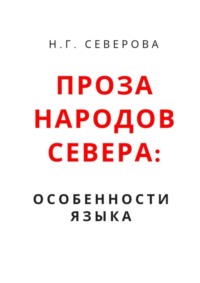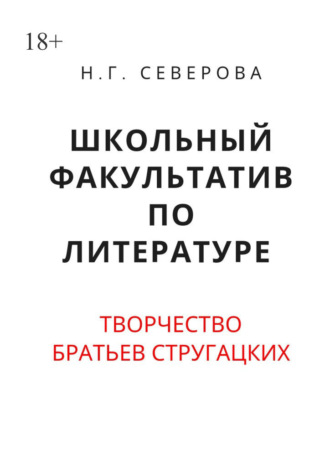
Полная версия
Школьный факультатив по литературе. Творчество братьев Стругацких
Результат наблюдений Быкова – принятие очередного решения к действию. Результат наблюдений Переца – осмысление мира и себя в мире:
«Я живу, вижу и не понимаю, я живу в мире, который кто-то придумал, не затруднившись объяснить его мне, а может быть, и себе… Тоска по пониманию, вдруг подумал Перец. Вот чем я болен – тоской по пониманию» [7;500].
Отсутствие должного внимания к чувствам, движениям души героев в «Стране Багровых Туч» будет отрефлексировано авторами впоследствии в особой трансформированной форме: в повести «Стажеры» братья Стругацкие наметят собственную писательскую эволюцию (именно аспект развития степени психологичности творчества), только в «Стажерах» она будет подана как размышление Ивана Жилина по поводу юношеских пристрастий Юры Бородина:
«Издавна так повелось и навсегда, наверное, останется, что каждый нормальный юноша до определенного возраста будет предпочитать драму погони, поиска, беззаветного самоистребления драме человеческой души, тончайшим переживаниям, сложнее, увлекательнее и трагичнее которых нет ничего в мире…» [8;588—589]
А чуть ниже авторы обозначат условие, при котором возможно осуществление такой эволюции:
«Настанет, конечно, время, когда он будет потрясен, увидев князя Андрея живого среди живых, когда он задохнется от ужаса и жалости, поняв до конца Сомса, когда он ощутит великую гордость, разглядев ослепительное солнце, что горит в невообразимо сложной душе строговского Токмакова… Но это случится позже, после того как он накопит опыт собственных душевных движений» [8;589].
(Интересно, что в «Отягощенных злом» А. и Б. Стругацкие соединят в ряде персонажей героев действия и героев чувства, мысли, подспудно, через цитацию, вводя в роман мироотношение героев А. Дюма).
Как бы то ни было, какова бы ни была степень психологизма в «Стране Багровых Туч», но уже здесь проявится постулат художественного мира братьев Стругацких: воля одного человека порой способна преодолеть социально-психологические преграды, выстроенные многими (роль Николая Захаровича Краюхина в воплощении в жизнь идеи фотонной ракеты).
И уже здесь помыслы, цели героев: Быкова, Ермакова, Дауге, Юрковского, Богдана Спицына и милейшего Михаила Антоновича Крутикова – подчинены идее и пафосу преодоления.
Удается ли авторам воплотить этот настрой?
Здесь нужно особо сказать об организации сюжета:
первая часть повести – «Седьмой полигон» – целиком представляет собой ситуацию перед прыжком: подготовку к полету на Венеру;
вторая часть – «Пространство и люди» – приближение героев к Венере, их высадка на планете; то есть герои вновь оказываются перед очередным прыжком.
И, наконец, третья часть – «На берегах Урановой Голконды» – штурм заветного, но выморочного пространства неподалеку от Урановой Голконды.
Как видим, сюжет повести так же выстроен по законам принципа преодоления.
Итак, повесть «Страна Багровых Туч» стала первым значимым для самих авторов явлением.
Значимость эта подтверждается тем, что в своих последующих произведениях Стругацкие будут постоянно оглядываться на «Страну Багровых Туч», вести с ней диалог, прежде всего, смеясь на собой, над своими представлениями о том, что человеку нужно от жизни, что значит «преодоление».
И самим этим диалогом авторы будут разрушать предельность своих прежних представлений.
Так, в романе «Полдень, XXII век» герои интерпретируют романтику преодоления технических барьеров и космических пространств следующим образом:
«– Вот послушайте, – сказал Панин. – Я давно уже думаю об этом. Вот мы – звездолетчики, и мы уходим к UV Кита. Два парсека с половиной.
<…>
– Потом мы долго летим назад. Мы старые и закоченевшие, и все перессорились. <…> А на Земле тем временем, спасибо Эйнштейну, прошло сто пятьдесят лет. Нас встречают какие-то очень моложавые граждане. Сначала все очень хорошо: музыка, цветочки и шашлыки. Но потом я хочу поехать в мою Вологду. И тут оказывается, что там не живут. Там, видите ли, музей.
– Город-музей имени Бориса Панина, – сказал Малышев. – Сплошь мемориальные доски.
– Да, – продолжал Панин. – Сплошь. В общем, жить в Вологде нельзя, зато – вам нравится это «зато»? – там сооружен памятник. Памятник мне. Я смотрю на самого себя и осведомляюсь, почему у меня рога. Ответа я не понимаю. Ясно только, что это не рога. Мне объясняют, что полтораста лет назад я носил такой шлем. «Нет, – говорю я, – не было у меня такого шлема». – «Ах, как интересно! – говорит смотритель города-музея и начинает записывать. – Это, – говорит он, надо немедленно сообщить в Центральное бюро Вечной Памяти». При словах «Вечная Память» у меня возникают нехорошие ассоциации. Но объяснить этого смотрителю я не в состоянии.
<…>
– Мы докладываем результаты нашего перелета, но их встречают как-то странно. Эти результаты, видите ли, представляют узкоисторический интерес. <…> Они делают такие перелеты за два месяца, потому что, видите ли, обнаружили некое свойство пространства—времени, которого мы не понимаем и которое они называют, скажем, тирьямпампацией. В заключение нам показывают фильм «Новости дня», посвященный водружению нашего корабля в Археологический музей» [9;356—357].
Как мы видим, в романе «Полдень, XXII век» происходит обесценивание цивилизационного, технического преодоления.
И осуществляется это не только посредством введения информации о том, что за время космической экспедиции на Земле совершены открытия, низводящие подвиг звездолетчиков до нуля, но и посредством игры с мотивом памяти (рогатый памятник, оторопь героя от словосочетания «Вечная Память» и помещение звездолета не куда-нибудь, а в музей древностей).
Причем, изменения в авторском мировидении проявятся еще до появления романа «Полдень, XXII век», хотя и не так ярко: «Путь на Амальтею» – это уже не героико-патетическая «Страна Багровых Туч».
Герои, казалось бы, те же, но с первых же страниц повести «Путь на Амальтею» у читателя возникает настороженность; что-то не так: слишком уж домашне-родственны отношения членов экипажа космолета «Тахмасиб».
И если капитан Быков все-таки выдерживает роль идола, бога и царя космических пространств, то инфернальный Юрковский и несчастный (в «Стране Багровых Туч») Дауге здесь, в «Пути на Амальтею», предстают полукомическими персонажами, патологически жадными до приключений и постоянно занимающимися поисками полутораметровой марсианской ящерицы Варечки, которая даст фору любому земному хамелеону; а нежная привязанность ко всем без исключения делает штурмана Михаила Антоновича Крутикова ближайшим родственником чеховской Оленьки Племянниковой.
В комически трогательной атмосфере, царящей на «Тахмасибе», герои предстают не столько в профессиональных ипостасях, сколько в ипостасях человеческих.
Эту атмосферу не разрушает персонаж, комический до кончиков ногтей: маленький восторженный француз-радиооптик Шарль Моллар привносит в повесть мягкую юмористическую ноту.
Да и комические диалоги героев, которых должен спасти экипаж «Тахмасиба» от голодной смерти, при всей серьезности задачи «Тахмасиба», снижают степень драматизма ситуации:
«– Вы очень скучаете по Земле? – робко спросила Зойка. <…>
– Очень, – ответила Галя. – И вообще по Земле, Зоенька, и так хочется посидеть на траве, походить вечером по парку, потанцевать… <…> И носить платье, а не брюки. Я ужасно соскучилась по обыкновенной юбке.
– Я тоже, – сказал Потапов.
– Юбка – это да, – сказал Козлов» [10;372].
И причина надвигающейся трагедии – голодной смерти обитателей Амальтеи – подается не в надлежащей пафосной тональности: вот как сочувственно-дружелюбно повествуется о грибке-вредителе, уничтожающем содержимое продовольственных складов:
«Это очень интересный грибок. Он проникает через любые стены и пожирает все съедобное – хлеб, консервы, сахар. Хлореллу он пожирает с особой жадностью. Иногда он поражает человека, но это совсем не опасно. <…> Зато продовольствие они [грибки —Н. С.] уничтожают в два счета» [10;349].
Комическое снижение значимости задания экипажа неслучайно.
Если в «Стране Багровых Туч» дело было главным, то сейчас авторы пристальнее всматриваются в человека.
В «Пути на Амальтею» мы найдем тот же прием, что и в предыдущей повести – соседство изображения ограниченности форм бытия и изображения преодоления этой ограниченности.
Но в «Стране Багровых Туч» порядок был такой: ограничение, предел, граница, через которые нельзя переступить, и тут же – хвала героям – на наших глазах совершается прецедентное преодоление.
В «Пути на Амальтею» порядок изменяется, герои преодолевают ограниченность форм бытия: они совершили ряд открытий (метеоритное кольцо вокруг Юпитера, розовое излучение, кладбище миров), но им предстоит погибнуть (смерть как предел).
Во имя чего авторы осуществляют это изменение?
Смертельная опасность, коснувшаяся героев, меняет пафос произведения: если в начале повести события подавались в шутливо-комическом ключе, то сейчас нарастает степень драматизма, вплоть до трагичности.
(Через десять лет подобная эволюция пафоса будет воссоздана в «Отеле „У Погибшего Альпиниста“»).
В «Пути на Амальтею» авторы впервые внимательно вглядятся во всплеск человеческого отчаяния.
И это пристальное внимание утвердит как ценность жизнь не ради общего дела, а ради самой жизни, то есть впервые будет увидена индивидуальная человеческая жизнь как нечто ценное само по себе:
«Жить, – подумал он [Юрковский – Н. С.]. – Жить долго. Жить вечно». Он вцепился обеими руками в волосы. Оглохнуть, ослепнуть, онеметь, только жить. Только чувствовать на коже солнце и ветер, а рядом – друга. Боль, бессилие, жалость. Как сейчас. Он с силой рванул себя за волосы. Пусть, как сейчас, но всегда» [10;401].
Даже преодоление ограниченности форм бытия в этой повести трактуется так: техника должна подчиниться человеческой воле в нарушение всех рациональных законов:
«– Есть шанс, – сказал Быков.
Михаил Антонович выпрямился и шумно перевел дух. Жилин глотнул от волнения.
– Есть шанс, – повторил Быков. – Но он очень маленький. И совершенно фантастический» [10;396].
Этот фантастический шанс героям дарует не кто-либо или что-либо, а их собственная воля к жизни.
Внимание к человеческой душе, проявляющееся в поиске Героя, приведет к поиску средств обрисовки персонажей вплоть до намеренного заимствования.
Вот как сразу же после аварии авторами выписывается Быков:
«– <…> Иван! – заорал он [Быков – Н. С.].
– Да? – откликнулся Жилин, заторопившись.
– Ты все возишься?
<…>
Было слышно, как капитан идет к нему, пиная пластмассовые осколки.
– Мусор, – бормотал он. – Кабак. Бедлам» [10;392].
Не правда ли, сразу же вспоминаются некоторые из особенно уверенных в себе героев А. Дюма?
С субъектной организацией в «Пути на Амальтею» по-прежнему проблемы: стрелка компаса мечется от зоны сознания одного к зоне сознания другого героя, но причина этой неопределенности уже не та, что была в «Стране Багровых Туч».
Сейчас идет осознанный поиск не просто героя, а человека, которому можно доверить индивидуальное освоение мира (не коллективное покорение космических пространств, а индивидуальное постижение законов существования мира).
Так, без форсирования, постепенно, определяется герой.
И стрелка субъектной организации останавливается на зоне сознания Ивана Жилина, маргинального, казалось бы, персонажа.
В работе «Бриллиантовые дороги» Сергея Переслегина мы находим следующие строки: «Сама по себе повесть интересна лишь тем, что в ней рассказывается о молодости Ивана Жилина, фигуры, несомненно, загадочной и даже трагической» [11;16].
Но «Путь на Амальтею» важен и самим поиском Человека, который стоит того, чтобы его глазами видеть мир, его руками делать Дело.
Поиск Человека – значительный и неотъемлемый процесс художественного мира Стругацких.
Впоследствии повесть «За миллиард лет до конца света» будет посвящена поиску Человека, способного взять на себя тяжесть ответственности за человеческие знания, превзошедшие дозволенные некими силами рамки.
А роман «Отягощенные злом» станет поиском Человека, которому можно доверить людское сообщество.
В целом небольшая повесть «Путь на Амальтею» представляет для авторов экспериментальную площадку: отыскиваются возможности перехода одной эмоциональной тональности повествования в другую (комической в драматическую) и при этом осваивается кольцевая композиция, привносящая в начало и финал произведения интонацию величественной саги.
В повесть вводится утрированно игровой элемент, к месту оказывается даже мальчишеский ход писателей (в финале повести выясняется, что мифически далекий ученый Кангрен, создавший теорию строения Юпитера, и есть директор «Джей-станции», которую спасает от голодной смерти «Тахмасиб»).
В атмосфере эксперимента-игры происходит неспешное изменение представлений авторов о том, что следует преодолевать их героям.
Эти поиски найдут логическое продолжение в романе «Полдень, XXII век».
Глава 3. Путь к иным планетам – движение человека к самому себе
В романе А. и Б. Стругацких «Полдень, XXII век» планета Земля XXII века предстает истинно родным домом, который населяют умные, доброжелательные, всегда очень занятые и очень этим довольные люди.
На планете Земля в XXII веке решена проблема питания: всю планету обеспечивают почти сто тысяч скотоводческих и двести тысяч зерновых ферм, позволяющие, помимо всего прочего, вести интенсивные научные исследования.
Эмбриомеханика дает землянам возможность в любых условиях, на любом сырье создавать любую конструкцию, заданную программой.
Самодвижущиеся дороги, связывающие многие города, не потребляют энергии, самовосстанавливаются, и будут существовать до тех пор, пока светит Солнце и цел Земной шар.
И существуют они только для того, чтобы человек не чувствовал пределов проявлению своей воли.
Две адовы картины, возникающие в «Полдне…» (работа Желтой Фабрики и непредвиденный эксцесс, сопровождающий испытание эмбриомеханического устройства МЗ-8), лишь доказывают, насколько несовершенной была жизнь в прежние века и насколько неостановимо движение человечества вперед.
Все эти достижения, так или иначе, провоцируют читательский вопрос: что служит причиной этого неостановимого движения, что порождает жажду преодоления привычных пределов?
И прежде всего жажда преодоления пределов проявляется в том, что планета Земля XXII века в романе Стругацких «Полдень, XXII век» – это стартовая площадка для космических исследований.
Иные миры, иные планеты притягивают человечество.
«Полдень, XXII век», который создавался Аркадием и Борисом Стругацкими в 1960—е годы, отталкивается от привычного, витающего в воздухе Земли шестидесятых годов представления: на Марсе, возможно, есть жизнь.
Мы шагаем по Марсу с героями романа Стругацких и не можем отделаться от ощущения: вот-вот где-то тут должны быть разумные существа, но пока и так нескучно…
Одна фауна чего стоит: в любой момент может показаться двухметровый ящер мимикродон со страшной треугольной головой, а уж о летающей пиявке можно слагать поэмы, проводя зловещие сравнения не в пользу человека («Блеяние козленка манит тигра»).
На этого летающего гада нужно ходить, как минимум, с тяжелым полуавтоматом с разрывными пулями: двухметровое нечто обладает восьмью челюстями, с режущими пластинками, острыми, как бритва.
А уж загадочна эта животина до неимоверности.
Появилась неизвестно откуда два месяца тому назад (а Марс колонизован землянами уже пять лет).
Нападает только ночью (поэтому никто ее толком не видел) и только справа («Как будто последний миллион лет она только тем и занималась, что нападала справа на людей, неосторожно удалившихся ночью пешком от Базы.» [9;331]).
Ко всему прочему – тварь отличается благородством загадочного происхождения: не трогает лежачего.
Образ летающей пиявки настолько выразителен, что в финале романа эксцессный эпизод глобальной облавы на неожиданно размножившихся пиявок позволяет авторам подвести итог неординарно прожитой жизни Поля Гнедых – Охотника.
Непредсказуема и флора Марса.
Достойны особого упоминания желтые шары кактусов, втягивающие в себя разреженный марсианский воздух, выпускающие этот воздух с оглушительным свистом, ракетой перелетающие на десять-пятнадцать метров.
Марсианское пространство – пространство опасности, здесь нужно преодолевать и избегать: бояться каверны – черной дыры с глубокой водой, образующейся в любой момент в песках Марса, чутко определять гиблые места – зыбучие пески.
(Эти выморочные куски пространства предрекают Зону из «Пикника на обочине»).
Но в романе «Полдень…» для землян уже в XXII веке:
Марс – это фиолетовая капуста, генерация атмосферы, колонизация,
Луна – стартовая площадка и обсерватория,
Венера – актиниды.
В XXII веке планеты приносят не только материальную пользу: они необходимы героям «Полдня…» как психологический стимулятор их жизни.
В период разброда и шатания Венера становится спасательным кругом для рвущихся к славе и запределью подростков из Аньюдинской школы.
Венера помогает будущему экипажу «Галактиона» прийти в себя после тяжелого удара, нанесенного осознанием того, что в мире большим почетом пользуются не космолетчики, а врачи и учителя, что «учителей все время не хватает, а космолетчиками хоть пруд пруди».
Венера провоцирует человечество на запределье.
Авторы наблюдают за энтузиастами глазами Сергея Кондратьева, отсутствовавшего на Земле сто лет, но помнящего, как он в свое время тридцать три дня крутился вокруг Венеры на планетолете первого класса, не решаясь высадиться.
Этот герой выслушает различные цели покорителей Венеры – и каждый из покорителей продемонстрирует свой максимализм.
Именно образ Венеры дает авторам возможность вывести читателей на мысль о смысле жизни человека – смысл этот в том, чтобы тратить энергию (монолог неизвестного в ночи, глядящего на Венеру).
Но на этом витке романа авторы пока не ведут речи о цели, ради которой нужно энергию человечества тратить.
Эта цель будет вырисовываться постепенно.
Неизведанные таинственные планеты интересуют людей XXII века как пространство, в котором можно найти следы иных цивилизаций.
Иные цивилизации дают о себе знать в романе прежде всего через искусственные спутники: Фобос – спутник Марса, выведенный на орбиту десять миллионов лет назад, и искусственный спутник Владиславы, на котором мы находим Горбовского, размышляющего о Десантниках другого мира и приходящего к выводу о причине, заставляющей разумные существа иных миров отправляться в поиск: «Они, конечно, были великие исследователи» [9;480].
Эта же исследовательская тяга не дает покоя землянам. Год мучает планета Владислава, чрезвычайно трудная для высадки, биолога Михаила Альбертовича Сидорова: обоймы киберразведчиков одна за другой сгорают в атмосфере этой планеты, попытки высадиться не удаются у исследователей-межпланетников, а планетолет Сидорову не доверяют, уж слишком ему хочется доказать существование жизни в системах голубых звезд.
При помощи Владиславы Стругацким удается показать извечный конфликт: стремление человека к запределью и ограничения, наложенные обществом. Ситуация, в которой Сидоров безрезультатно настаивает на том, чтобы Горбовский взял его с собой в очередную попытку погружения в атмосферу черно-оранжевой Владиславы – наверное, первый эпизод в творчестве Стругацких, когда такая степень безысходности настигает героя.
Начатая в «Стране Багровых Туч», в «Полдне…» вновь звучит тема сталкерства.
Но в «Полдне» сталкерство уже подразделяется на два вида: абсолютное сталкерство Сидорова и сталкерство разумное, сталкерство Десантников, которые точно рассчитывают момент, когда можно быть нерасчетливыми.
Но даже в пределах этого разумного сталкерства возникает конфликт великодушия и расчета (спор Горбовского с Валькенштейном после того, как Горбовский объявил, что берет Сидорова в поиск).
Работая с художественным временем, авторы используют особый прием: одномоментно они показывают разочарование и радость двух сталкеров, исповедующих разные понимания сталкерства (Сидоров, потерявший надежду зафиксировать жизнь в атмосфере Владиславы из-за вышедшей из строя техники, и Горбовский, понявший, где искать следы Десантников иного мира).
Чтобы показать, в какой степени сталкеры-максималисты отличаются от сталкеров-Десантников, Стругацкие особым образом выстраивают художественное время.
Напряжение героя-запредельщика прорывается в сшибке его радости и разочарования (экспресс-лаборатория Сидорова показывает, что за бортом, в атмосфере Владиславы, находится белок, живая протоплазма, но тут же фиксирующий это прибор выходит из строя, бросая Сидорова от восторга к ярости).
Конфликт между сталкером-запредельщиком и разумными сталкерами неизбежен, поэтому в определенный момент сюжетного времени Сидоров оказывается единственным дееспособным на планетолете и делает посадку на Владиславе, нарушая инструкции.
Расплатой за нарушение пределов становится утрата возможности сталкерского образа жизни.
Нарушение пределов (высадка на Владиславе) становится не только проявлением конфликта между двумя видами сталкеров (максималистами и разумными сталкерами-Десантниками), высадка на Владиславе проявляет и внутренний конфликт сталкера-максималиста Сидорова, которому приходится самому себе внушать, что он сделал то, что надо.
Противоречие иного характера читателю помогают понять герои, попавшие в XXII век из века XXI (Кондратьев и Славин).
Эти герои, по прихоти судьбы, отставшие от жизни на Земле на целый век, постигают будущее, выслушивая лекции праправнуков.
Ассенизатор Юра читает Жене Славину лекцию о том, что такое «нынешняя ассенизация», а Леонид Андреевич Горбовский в жанре пространного монолога-лекции растолковывает Сергею Ивановичу Кондратьеву задачи космолетчиков.
Не просто следы, а целую цивилизацию, удастся встретить героям «Полдня…» на планете Леонида, названной в честь самого Леонида Андреевича Горбовского.
И здесь снова возникает противоречие между безоглядной человеческой устремленностью вперед и разумным ограничением этой тяги.
Полный сожаления и досады внутренний монолог Комова, обычно не балующего читателя своей откровенностью, дает понять, насколько притягательны иные миры, именно как пища для разума.
Средоточием иных миров на планете Земля становится пространство Музея. Музей XXII века в «Полдне…» отвергает стереотипный набор черт, характерных для этого учреждения.
Изменение привычного значения слова «музей» в «Полдне…» диктуется самими экспонатами, каждый из которых – нарушение земного стереотипа.
Многообразие, изобилие форм жизни, чрезвычайная жизнеспособность представленных в Музее экземпляров (микроновелла о шестиноге) дает возможность Полю Гнедых подтвердить свои многолетние наблюдения над жизнью иных миров: жизнь – это единственное, чему стоит поклоняться.
Многообразной, изменчивой, динамичной жизни в романе Стругацких соответствует ищущий, развивающийся, преодолевающий преграды разум.
В «Полдне…» поднимается проблема «что есть разум?», которая будет важна для Стругацких на протяжении всего их творчества.
В «Полдне…» проблема разума неразрывно связана с двумя другими проблемами: «каковы они, иные разумы?», и «чем закончится встреча земного разума с иными цивилизациями?» (монолог Горбовского «Мне надо искать следы разума во Вселенной, а я не знаю, что такое разум»).
В целом «Полдень…» становится для авторов лабораторией, в пространстве которой они исследуют вопросы интеллектуального характера, прежде всего это вопросы естественно-научного характера (теория Взаимопроникающих Пространств, назначение и принципы работы коллектора рассеянной информации, кодирование человеческого мозга на кристаллическую биомассу) и характера философского (смысл жизни отдельного человека и человечества в целом).
Эти авторские размышления, воплощаются в жанрах:
газетного очерка (описание работы института Физики Пространства),
научной статьи (технология нахождения «поля связи»),
лекции (лекции, которые читают жители Земли XXII века Кондратьеву),
эвристических диалога и полилога (о целях покорения Венеры, о смысле жизни человека),
внутреннего монолога героя (размышления Сидорова о преодолении таких пределов как поражение и смерть [9;643]).