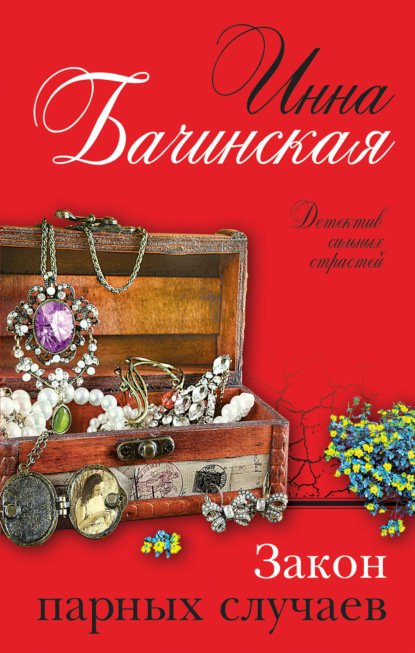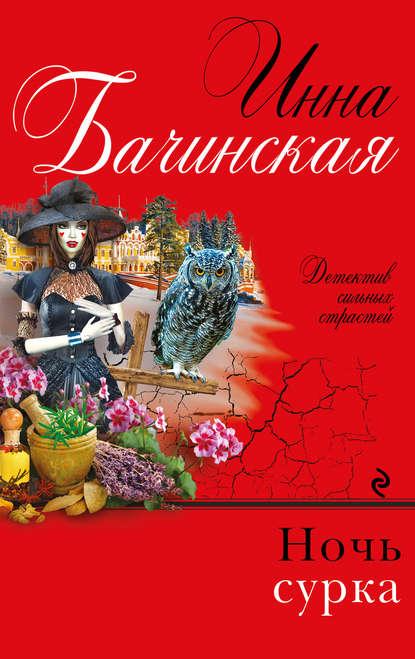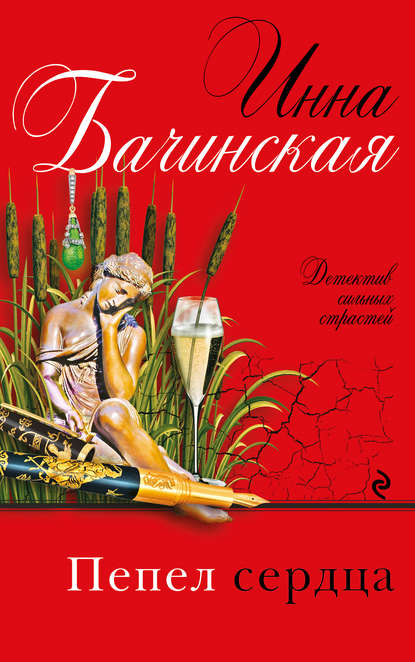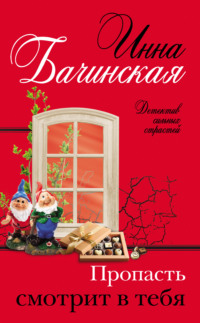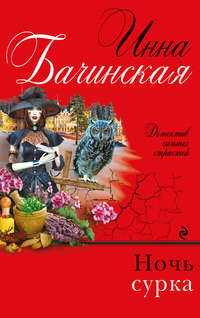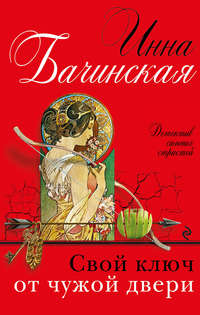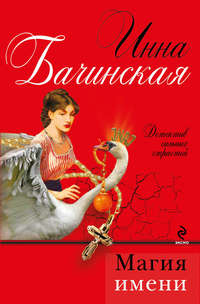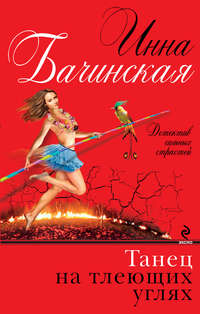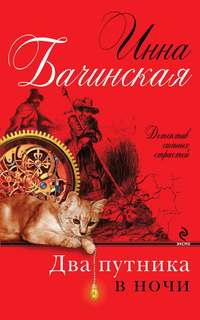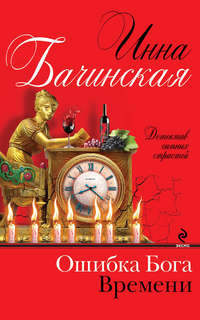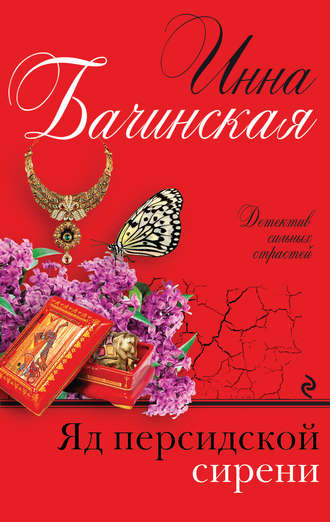
Полная версия
Яд персидской сирени

Инна Бачинская
Яд персидской сирени
© Бачинская И.Ю., 2017
© ООО «Издательство «Э», 2017
* * *Действующие лица и события романа вымышленны, и сходство их с реальными лицами и событиями абсолютно случайно.
АвторПролог
…Мир был зелен, сколько хватало глаз. Сочные заросли травы били ключом, под деревьями дымился густой синий сумрак, косо пронизанный солнечными лучами. Послеполуденный безмятежный зной, дрожащее марево над Детинцем, выгоревшее добела небо сверху – и все! Ни человека, ни городских улиц, ни машин. Пусто и тихо.
– Так не бывает! – выдохнула Ника, бледное дитя каменных трущоб. – Я сейчас проснусь!
– Просыпайся. Хочешь увидеть хижину?
– Хочу! Нет! Я хочу жить на дереве.
– Я построю тебе гнездо.
– Хочу на этом дереве! Это же… шелковица! Здоровенная, как баобаб… Таких не бывает. Скажи, Тим, что не бывает, и толкни меня или ущипни. Я опять сплю.
– Ты не спишь. Это шелковица, вон ягоды осыпались. Будем разводить червяков.
– Бр-р-р, каких червяков… шелкопрядов!
– Научишься ткать и подаришь мне рубашку.
– Ага, и вышью – я тебя люблю! А потом мы уйдем в горы.
– Здесь всего-навсего одна гора, и называется она Детинец. А еще холмы и курганы.
– Детинец? Прекрасное название, такое… горное. Кстати, что это такое?
…Они целовались под шелковицей-баобабом, роняющей ягоды. Ягоды глухо шлепались на землю – стаккато ударных в стройном хоре птиц, шелеста ветерка, травы и листьев. Они были молодожены и все время целовались…
Глава 1. Пациент в коме
…Смерть – это общее право,Никто не живет два века…Жизнь – другое дело.Красное виноЛьют в пустое тело,Но каждому оноРазное дано.Э. Дикинсон. [Стих] 583– Доктор, как он? – Женщина тревожно всматривалась в лицо человека в белом халате.
Доктор пожевал губами… Это был самый лучший в городе доктор, и его клиника тоже была самой лучшей. У него было мужественное лицо, вызывающее доверие. Хорошая фигура, прекрасно сшитый дорогой костюм… Один древний автор сказал, что врач должен быть прекрасно одет и распространять запах благовоний. Этот врач был именно таким. Ему хотелось верить безоговорочно, и пахло от него дорогим парфюмом.
– Мы делаем все, что может предложить современная медицина, – сказал он веско, беря женщину за руку и заглядывая ей в глаза. – Все! У вашего мужа есть шанс, поверьте. Будем мужественны и будем надеяться. Он молод, у него крепкое сердце, мы вернули его к жизни, мы наблюдаем его, есть серьезные улучшения. Ждать, ждать и ждать. Все в руках… – Он поднял глаза к потолку. – Говорите с ним, он чувствует интонацию и узнает ваш голос. Любая мелочь – звук, запах, прикосновение могут подтолкнуть…
– Когда же он проснется? – перебила женщина. – Почти девять месяцев… Она всхлипнула.
– Ну-ну, не будем терять надежды, Вера Владимировна. – Доктор положил руку ей на плечо. – Не нужно плакать. Ждать и надеяться, ждать и надеяться. В один прекрасный момент он откроет глаза, увидит вас и скажет…
– Доктор, что это? – Она ткнула рукой в аппарат с бегающими зелеными огоньками. – Что это значит?
– Фиксация функционального состояния головного мозга. Видите ли…
– Мозг работает?
– Несомненно.
– Но он же без сознания!
– Какие-то процессы в нем все равно происходят. Мозг активен. Возможно, сейчас он видит сон…
– А когда он очнется… – она запнулась. – Он будет соображать? А память?
Доктор снова пожевал губами – до чего же гадкая привычка! Сказал после паузы:
– У вашего мужа серьезная черепно-мозговая травма, повреждена левая лобная доля, смещены лицевые кости, переломы носа и нижней челюсти… не считая всего остального. Мы сложили его заново, и я считаю…
– Я знаю! – перебила она нетерпеливо. – Какой он будет, когда проснется? Как раньше? Или… что с ним может случиться?
– Возможна некоторая потеря памяти, но не обязательно, – сказал доктор осторожно. – Возможны некоторые странности и неадекватное поведение, утрата поведенческих программ и навыков. Ходить, я думаю, ваш муж сможет. Не сразу, конечно. Кто он по профессии?
– У нас компания по сбыту электроники.
– Трудно сказать, восстановится ли он настолько, чтобы руководить компанией в дальнейшем. Поймите, то, что он остался жив, само по себе чудо.
– Ну а меня он будет узнавать? – настаивала она. В ее голосе послышалось раздражение. Она ставила четкие вопросы и хотела получить такие же четкие ответы.
Доктор развел руками:
– Поймите, трудно прогнозировать. Он сейчас между мирами, грубо говоря. Куда качнется маятник… Подождем.
– Сколько еще ждать? – Женщина почти кричала. – Я… я больше не могу!
– Говорите с ним. Возьмите за руку и говорите. Он помнит ваш голос, возможно, это как-то отзовется. Извините, меня ждут.
Он поклонился и ушел. А они остались: мужчина в коме и женщина, его жена. Она пристально рассматривала лежащего на койке: бледный в синеву, заросший черной бородой, с длинными волосами, разбросанными по подушке, – в них пробивались седые прядки, – с заостренным торчащим носом, с выступающими скулами. Ей показалось, веки его дрогнули. Она нагнулась над ним и сказала:
– Ты спишь? Ты меня слышишь? Хоть что-нибудь? О чем с тобой говорить? А может, ты все-таки слышишь? – Она положила руку ему на лоб. – Чувствуешь? Ты меня узнаешь? Павел! Паша! Ты помнишь, как тебя зовут? Паша! – настойчиво звала она. – Паша!
Она снова и снова звала его по имени – настойчиво повторяла снова и снова, – осторожно прикасалась к щеке, осторожно брала за руку; клала ладонь ему на грудь и «слушала» пальцами биение сердца. Казалось, она совершает некий странный и пугающий ритуал по возвращению неподвижного безжизненного тела из потустороннего мира, где он находился, в мир живых. У нее было лицо уставшего и сломленного человека…
Наконец она замолчала. Сидела на стуле, не сводя с него взгляда. Думала. Вздрогнула от писка мобильного телефона. Отошла к окну.
– Ну? Еще в больнице. Ничего! Они ничего не знают, говорят, надо ждать. За такие бабки… Ты где? Захватишь меня? Жду.
Она опустила телефон в карман жакета. Посмотрела через окно на скучный больничный сад, на мокрые аллеи, на тусклую молодую траву, безнадежно тусклую, как и все здесь, на плац с десятком запаркованных разноцветных автомобилей. Вдруг из-под туч вырвался солнечный предзакатный луч, осветив все оранжевым тяжелым светом; женщина зажмурилась и отступила, ощутив внезапный укол страха…
…Машину человека, звонившего ей, она заметила сразу. Подошла, открыла дверцу. Уселась. Повернулась к нему и воскликнула в отчаянии:
– Я больше не могу! Сколько это еще может продолжаться? Я устала! Я на пределе! А этот лекарь… он же ничего не знает, ему проповедником быть. «Ждать и надеяться, ждать и надеяться», – повторила она издевательски с интонациями доктора. – Спрашиваю: когда он очнется? Пожимает плечами. Что с памятью? Сможет ли ходить? Будет ли соображать? Или превратится в растение? Снова пожимает плечами. Говорит, скажите спасибо, что вообще выжил. С такими травмами…
– Успокойся, Верочка, все образуется. Время, время и еще раз время. – Мужчина берет ее руку, целует. – Главное, компания на плаву и мы делаем все, чтобы удержаться. Поверь, все будет хорошо. Доктор сказал, он может потерять память?
Женщина кивает. Некоторое время оба молчат.
– А тут еще эта появилась… Татка, – с досадой говорит женщина. – Все одно к одному. Господи, ну что мне теперь делать?
…Они сидели за своим любимым столиком в небольшом китайском ресторанчике, в секции, отделенной от зала высоким узким аквариумом. В аквариуме плавали крупные серые рыбы с выпученными голубыми глазами и шевелились розовые водоросли. Вера, жена мужчины в коме, и Володя, его друг. Соломенная вдова и верный друг дома…
– Верочка, но хоть что-то? Какой-то сдвиг?
– Все так же. Доктор сказал, если даже придет в себя, не факт, что восстановится. Возможна потеря памяти, нарушение поведенческих программ…
Они обменялись долгим взглядом. Володя спросил:
– Что это такое?
– Ничего не будет понимать, вот что. Кроме того, не сможет разговаривать, потеряет речь. Может стать идиотом.
– Он сказал «возможно»…
– А что еще он может сказать? Что можно сказать наверняка? Сказал, надо ждать. Сидеть и ждать. Возможно, потеряет речь, возможно, станет идиотом… если проснется.
– А он не умрет? Люди в коме годами…
Вера промолчала.
– Ладно, не будем о грустном, – сказал Володя. – Как-нибудь будет. Выкарабкаемся. К нему можно? Я бы хотел навестить. Пустят?
– Наверное, пустят. Ему все равно. Доктор сказал, нужно с ним разговаривать. – Она хмыкнула. – Он считает, на уровне подсознания он слышит и узнает голоса. У них там прибор активность мозга измеряет, так видно, что в мозгу что-то происходит, зеленые волны так и бегут. Я спросила: что это значит, он что, понимает? Доктор говорит, что мозг активен, а насколько активен, пока неизвестно. Несколько раз повторил: «Будем надеяться…»
– Как он выглядит?
– Как? – Вера хмыкнула и пожала плечами. – Нормально выглядит. Кроме того, борода…
– Узнать можно?
Снова они смотрят друг на дружку; Вера снова пожимает плечами…
Официант, узкоглазый азиат, зажигает в центре стола спиртовку. Красный огонек трепещет в легком сквознячке. Азиат ставит на спиртовку блюдо с овощами и рыбой, расставляет большие тарелки с иероглифами и мисочки с коричневым рисом, наливает в высокие бокалы пиво из маленьких бутылочек. Желает приятного аппетита и уходит.
– Может, вина? – спрашивает мужчина.
– Господи, ну какое у них тут вино! – раздраженно говорит женщина. – Достаточно пива.
– Успокойся, мы выгребем. Побереги силы. Ничего страшного не случилось. Даже при самом плохом раскладе…
– Помолчи, а? – Она пригубливает пиво. – И так хреново. Я вся на нервах, я перестала спать… Отвратительное пиво. Никогда не любила пива.
Он кладет ладонь на ее руку. Говорит примирительно:
– По-моему, ничего. Никогда не думал, что китайское пиво можно пить. Не намного хуже баварского. Может, тебе все-таки вина?
Женщина не отвечает. Сосредоточенно ест, глядя в тарелку.
– Ты сказала, появилась Татка… – Полувопрос повисает в воздухе.
– Появилась! – бросает женщина. – Лечебница обанкротилась, пациентов забирают. Сначала обещали подержать, пока родные не найдут новую, а теперь требуют немедленно. Этого нам еще не хватало!
– Она что, совсем плохая?
– Господи, да откуда я знаю! Я не видела ее ни разу с тех пор, как ее забрали. Была плохая. Не думаю, что стала лучше, их там пичкают всякой дрянью… может, стала как овощ. Семь лет, сам понимаешь.
– Это ненадолго, найдешь что-нибудь… Может, снять ей квартиру?
– Какая квартира? О чем ты? Эту дрянь нельзя оставлять без присмотра, она на все способна.
– Вы сестры?
– Понятия не имею. Отец считал, что она его дочь, значит, сводные сестры. Ее мамаша была гулящая, так что черт ее знает. Мне наплевать, понял? Она приблуда и навсегда останется приблудой. Точка. – Вера сжимает кулаки.
– Понял, понял. Можно определить отцовство и…
– Какая, на хрен, разница, если она совладелец компании? – кричит Вера. – Отец все поделил поровну. Дочь, не дочь… Он ушел к любовнице, когда мне было четыре, через пару месяцев у них родилась Татка. Бросил маму и меня. Мама в ногах валялась, умоляла, а он как взбесился! Любовь у него, видите ли. И ведь не мальчик! Никогда ему не прощу! А через четыре года вернулся в семью – мадам его бросила. Сбежала. Говорили, с молодым любовником, тоже циркачом. Она была не то гимнасткой, не то наездницей, а папаша обожал лошадей, у нас была конюшня в пригороде. Вот и сбрендил на старости лет. Она сбежала, а он вернулся с ребенком, и мама приняла их. А куда было деваться? Девчонка была сущим наказанием: наглая, бойкая приблуда, да еще и воровка. Отец всегда ее защищал, она была любимицей, как же! Она маленькая, она сиротка, она без мамы! Я без слез не могу вспомнить мамочку, сколько унижений ей пришлось вынести! Видеть все время перед собой эту маленькую подлую сучку, плод любви, представляешь? И перед знакомыми и друзьями стыдно… счастливое семейство! Все так и пялились, мама плакала, а ему хоть бы хны! «Мои любимые девочки, сестрички, подружки». Они часто ссорились, мама умоляла отдать ее в какую-нибудь закрытую частную школу, а отец не соглашался. Она жаловалась ему на нас, он выговаривал мне, требовал, навязывал дружбу с ней. Даже подарки! Он дарил нам одинаковые украшения, хотя я была старше. Мужики не понимают, им кажется, надави, и все образуется. Хозяин, кормилец, сказал – отрезал. Ненавижу!
– Как она попала в лечебницу?
– Отец умер от сердечного приступа, когда мне было девятнадцать, а ей пятнадцать. По завещанию мы унаследовали все в равных долях. Ну и мама, конечно, получила достаточно для жизни. Мама стала ее опекуншей. После смерти мамы – я. Больше никого нет. Где ее мамаша, мы не знали, она ни разу не вспомнила о дочери. Ни письма, ни звонка. Ничего. Я знаю, что отец пытался разыскать ее, делал запросы – после его смерти мы нашли документы. Она просто исчезла, может, эмигрировала. Оно и лучше, а то доила бы отца. У меня в голове не укладывается… отец был жестким человеком, даже жестоким, сильным, часто бессердечным, и вдруг становился какой-то размазней, когда дело касалось Татки… бессмысленная улыбка, все готов оправдать, без конца повторял, что мы сестры, что она – единственный близкий мне человек… а я молчала! Гладил ее по голове, обнимал… у него даже голос дрожал! Он учил ее водить машину, они вместе уезжали надолго, а я училась в школе с инструктором, до меня он не снизошел. И я молчала. Понимаешь, молчала! Сожму кулаки, отведу глаза и молчу.
Она замолкает, сидит, смотрит в стол, вспоминает. В голосе откровенная злоба, кулаки сжаты, ноздри побелели.
– Ну и натерпелись же мы! Она убегала из дома, воровала деньги и вещи, он вытаскивал ее из каких-то грязных притонов… и ничего! Все та же песня: бедная девочка, без мамы, сирота, стресс. И так до самой смерти. А за несколько дней написал завещание… Половину ей! Представляешь? Незаконной! Мама пыталась оспорить, кучу денег выбросила… ничего не доказала. Я тогда уже встречалась с Пашей, мы собирались пожениться, а тут постоянные скандалы, полиция, ночные звонки, следователи. Кончилось тем, что она зарезала своего дружка. Экспертиза установила, что она была под кайфом, не то наркота, не то алкоголь. Вопрос стоял: или тюрьма, или лечебница. Мама совала всем подряд и добилась, что ее признали психопаткой… она и правда была неадекватной. В итоге она загремела в закрытую лечебницу, и мы перевели дух. А теперь она снова в моем доме… рок какой-то! Ненавижу! Лежу ночью без сна, думаю, вспоминаю, и такая обида на отца за ад, который он нам устроил… не могу его простить! Никогда не прощу.
– Не рви сердце, – говорит Володя после паузы. – Есть вещи, которые нельзя изменить, их можно только принять или попытаться забыть. Как-нибудь будет, главное, удержаться на плаву. Ты не одна, помни это. Ты умница, ты красивая, у тебя много друзей. Все будет хорошо, честное слово.
Вера махнула рукой, всхлипнула, потянулась за салфеткой…
Глава 2. Возвращение
Озабоченный заведующий совал выписки из истории болезни, справки, рекомендации, уверял, что они делали все, что в их силах, с применением передовых методик, и Вера видела, что ему не до нее с ее проблемами. Ему поминутно звонили, он кричал в трубку. В лечебнице стоял шум и гвалт: паковали аппаратуру, выносили и грузили в контейнеры мебель. Было похоже на бегство. Дверь поминутно распахивалась, и влетал кто-то из персонала с вопросами. Заведующий извинялся и выходил. Вера с досадой прислушивалась к грохоту и голосам за дверью, желая одного: завершить как можно скорее тягостный визит и убраться подальше. Ее страшила встреча с сестрой, ее пугала перспектива взвалить на себя судьбу изломанного, искалеченного, умственно неполноценного инвалида. Семь лет – немалый срок, если ее пичкали всей этой химией, то можно представить, во что она превратилась. В лучшем случае овощ, в худшем – припадочная. И в том, и в другом – обуза. Ненужная, ненавидимая обуза, вериги, камень на шею. Чертова лечебница! Столько денег вбухано, и такой финал, не могли аккуратнее… знаем, наслышаны о передовых методиках. То-то прокуратура заинтересовалась, всех теперь будут таскать. Она вспомнила невольно доктора из больницы, где лежал Павел… Проходимцы! Деньги, деньги, деньги…
Она чувствовала, как зашатался ее мир, такой надежный и прочный еще недавно, еще вчера, как побежали трещины по стенам и посыпалась с потолка штукатурка. Удар под дых. Закон парных случаев. Самый подлый неписаный закон: за первым ударом следует второй. Не вовремя, ох как не вовремя! Тут с одним бы разобраться…
Заведующий, смягчая удар, уверял, что Татьяна Мережко чувствует себя нормально, что ее «состояние» прекрасно контролируется новейшими медикаментозными препаратами, нужно только соблюдать режим и обеспечить постоянный присмотр. Желательно нанять сиделку – в регистратуре можно взять список и расценки.
– Рекомендации и названия препаратов здесь. – Он похлопал ладошкой по бумажкам на столе. – Это не конец, мы поднимемся, но сейчас, понимаете, нужно сойти со сцены на некоторое время… – Он доверительно понизил голос. – Поверьте, мы полностью осознаем причиняемые неудобства, в будущем договор о содержании пациента будет пересмотрен в пользу клиента… если надумаете обратно. Год, другой – у нас отличные адвокаты, – и мы вернемся, даю слово. И тогда милости просим.
Вера кивала, испытывая тоску и растущее желание убраться из скорбного места. Лицо у заведующего было карикатурно-сладким, тон доверительным, он многозначительно заглядывал ей в глаза, давая понять, что они одного круга и прекрасно друг дружку понимают. Только ручку не жал и не похлопывал по плечику, как тот, другой.
Заведующий потянулся к телефону, сказал в трубку:
– Приведите ко мне Татьяну Мережко.
Вера внутренне сжалась, не сводя взгляда с двери. Трудно описать то, что она испытывала. Гнев и протест против насилия – разве не насилие принять на себя ответственность за психопата? Раздражение, неприятное царапающее чувство вины за то, что ни разу за семь лет… ни разу! Не хотела, забыла, руки не доходили… Господи, кому нужны эти долбаные приличия? Платила исправно, причем немало, пусть скажет спасибо, что не загремела в колонию. Дрянь! Ненавижу! И пусть только заикнется о наследстве. Ну, ничего, есть и другие спецбольницы… конечно, надо было подсуетиться заранее, но… черт! Свалилось все сразу. Если бы не Паша…
Вот так вкратце: ненавижу, обуза, что делать. А еще: черт, свалилось, некстати.
В дверь постучались, и, не дожидаясь ответа, вошли сестра в голубом халате и высокая женщина в бесформенном сером платье и туфлях на плоской подошве. Вера впилась взглядом в ее лицо – невыразительное, мучнисто-белое, отекшее. Татка! Как непохожа, господи, оторопело подумала Вера. Татка остановилась у двери, не глядя на них, руки по швам.
– Спасибо, свободны, – сказал заведующий сестре, и та без слова вышла. – Здравствуй, Таня. За тобой приехали. Это твоя сестра, узнаешь?
Татка кивнула, не поднимая глаз.
– Сегодня ты едешь домой, мы все желаем тебе доброго здоровья, не поминай лихом. Теперь у тебя другая семья…
Что он несет? Какая семья? Вера раздула ноздри. Дурак!
…Она шла впереди, чувствуя спиной присутствие Татки, ее дыхание, шорох шагов, даже запах – тусклый спертый больничный запах, – понимая, что нужно сказать… хоть что-то, раз уж так получилось, разрядить обстановку, дотронуться до сестры – сестра все-таки – и не могла заставить себя. Не могла. До боли сжимала кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладонь, и не могла. Сестра… неизвестно еще!
Она открыла переднюю дверцу машины, красной «Хонды Аккорд», отступила в сторону, кивнула Татке. Та, согнувшись, влезла внутрь и неуклюже завозилась на сиденье, устраиваясь. Вера искоса рассматривала сестру, поражаясь перемене в ее внешности и манере держать себя. Взглядывала коротко и тут же отводила взгляд. Рядом с ней сидела неизвестная ей женщина неопределенного возраста. Из буйного, неприятного, крикливого подростка-бунтаря Татка превратилась в непонятное молчаливое и вялое существо с чужим лицом, чужой бесформенной фигурой и тусклыми бесцветными короткими волосами, собранными в жалкий пучок на затылке. Невольно она подумала о том, что сказал бы отец, увидев свою любимицу в таком виде. И снова шевельнулось в ней чувство вины, которое она, впрочем, легко подавила. Сколько ей теперь? Двадцать пять, а на вид старуха. Хоть не буйная, и на том спасибо…
За окном мелькали дачные поселки, нарядные домики, увитые виноградом, облезшие сараи, рощи и перелески.
– Узнаешь? – спросила Вера, испытывая усиливающийся дискомфорт, чувствуя, что нужно сказать хоть что-то, начать разговор, спросить и услышать ответ.
– Да, – ответила Татка. Голос ее был таким же тусклым, как и лицо.
Вере пришло в голову, что сестра семь лет пробыла в четырех стенах больничной палаты, подчиняясь строгому казарменному распорядку лечебницы. Как в тюрьме, без права переписки, без свиданий с близкими. Она вспомнила амбала-секьюрити на входе и невольно поежилась.
Машина въехала в ворота, медленно прокатила по выложенной красно-синей плиткой аллее, остановилась перед крыльцом.
– Мы дома, – сказала Вера через силу. – С приездом.
– Дома, – отозвалась Татка, не делая попытки расстегнуть ремень и открыть дверцу. Сидела, безучастно глядя на дом; руки все так же лежали на коленях. Вера увидела ее коротко остриженные ногти и невольно перевела взгляд на свои, покрытые лиловым лаком.
Дом… Громадный двухэтажный домина под красной черепичной крышей, с окнами разной формы и размера: круглыми, как иллюминаторы, криво-квадратными и криво-узкими горизонтальными, он странным образом напоминал человеческое лицо: улыбающийся рот с усиками – большая двустворчатая дверь с красно-синей витражной вставкой сверху, слегка перекошенной; круглые удивленные глаза – два окна-иллюминатора по бокам; длинный нос – узкое, с частым переплетением рамы и сглаженными углами окно выпуклого толстого тонированного стекла с первого этажа на второй. И крыша как остроконечная красная шапочка гнома с ушками – двумя каминными трубами, украшенная ажурным коньком и флажком-флюгером. Дом когда-то нарисовал их отец и, несмотря на протесты супруги, долго искал архитектора, который согласится воплотить это чудо. Он называл свое детище «кривой модерн» и все время цитировал одного сумасшедшего архитектора, который считал, что прямые линии и углы не имеют права на существование. Природа извилиста, говорил отец, искусство следует природе,эрго, искусство тоже извилисто. Как жизнь. Мама только качала головой. Однажды она сказала, что отец сошел с ума из-за своей циркачки и у Татки дурная наследственность…
Их встречали. Володя стоял на крыльце с цветами. Вера поморщилась – идиотская затея, какие цветы! Тоже мне, семейное торжество. Прост как грабли…
– Добро пожаловать, – сказал Володя, протягивая цветы Татке. – А я уже стал беспокоиться, вас нет и нет!
Тон у него был нарочито бодрый, чувствовалось, однако, что он смущен. Вера, подавив раздражение, бросила, обернувшись к сестре:
– Возьми, это тебе!
Татка взяла цветы, уставилась. На лице не промелькнуло ровным счетом ничего. Она смотрела на цветы, неловко держа их перед собой. Казалось, она не понимает, что это и что с этим делать.
Вера и Володя переглянулись, и Вера пожала плечами. Володя отступил, пропуская девушек. Они вошли.
– Господи, как я устала! – простонала Вера, сбрасывая туфли на высоких каблуках. – Я к себе. Володя, покажи Татке ее комнату.
– Не задерживайся, я накрыл стол в гостиной, буду кормить вас. Таня, где твои вещи?
– Не нужно! – поспешно сказала Вера. – Я все приготовила. Пусть примет душ.
Она не обратилась к сестре прямо, она говорила о ней в третьем лице. «Пусть примет душ…» Как о малом ребенке или о животном.
– Конечно, Верочка. Пошли, Таня! – Володя тронул локоть Татки. Она дернулась, как от удара, и отступила.
Вера босиком побежала к себе на второй этаж, Татка и Володя остались в большой прихожей. Татка озиралась, подолгу задерживая взгляд на деревянных панелях, оленьих рогах, высоких шкафах темного дерева. Узнавала и не узнавала…