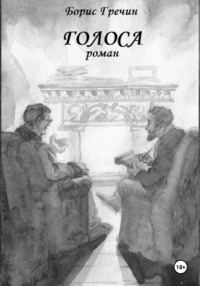Полная версия
Русское зазеркалье
[Сноска дальше.]
– You know, I am not supposed to kick or bite you, unlike those horses at the Horse Guards…
– I know, thank you, miss, – ответил Патрик серьёзно. Тут же, смутившись ещё больше, исправился: – Madam, that is. Sorry!
Я, кажется, рассмеялась. В конце концов, у меня было хорошее настроение, и погода была хорошей для Лондона в начале апреля.
– No, you are not one of the horses that may kick or bite, – продолжил Патрик с той же абсолютной хмурой серьёзностью, тщательно выговаривая слова. – You are just very Russian.
– Well, yes… – я почти обиделась. – What do you exactly mean saying that, by the way?
– I mean that you are a bit too far with your role-playing; you are so deeply inside of what you research and explore one could believe you actually are a Russian citizen, – отозвался он. – Do you enjoy it, or what? Do you think it is even remotely funny, these days, and with the Skripal case? Or do you deliberately try to shock people, like what you said about rock singers?
Как интересно: парнишка-то, похоже, русофоб. А ещё интересней то, что он, пропустивший серию вопросов и ответов, даже не понял, что я действительно русская, использовал «русский» как качественное прилагательное, не как относительное. Очень лестно, ничего не скажешь…
– Come on, I am Russian, – сказала я негромко. – I am a Russian citizen. I am on a visa here.
Патрик открыл рот – и замолчал как рыба. Нашёлся только секунд через пять:
– I… am terribly sorry. I didn’t mean to sound racist, or xenophobic, or whatever. Was terribly rude of me. I… I’d better say nothing, you know.15
Я кивнула. Я ничего не имела против молчащего Патрика. Разочаровал он меня своей узостью, хоть и выглядел умненьким. Они вежливые, да, вежливые, но ограниченные – многие, по крайней мере, а молодое поколение почти сплошь. А мы, впрочем, разве не ограниченные? Тоже сплошь и рядом, только на свой лад, а при этом ещё и невежливые…
Как странно всё в этой жизни! Вот я – Alice Florensky, приглашённый педагог в столичном музыкальном колледже, уверенная дама, вгоняющая в краску молодых мальчиков; говорю, не задумываясь, на языке, на котором в детстве и двух слов связать не могла; шагаю по улице этой самой столицы мирового капитала и, по слухам, дрязг мировой закулисы, а Лютово, где я выросла, – так далеко, что спроси здесь любого – никто не скажет, где это самое Lieu-to-Woe. Must be in the south.16 Много ли во мне осталось от пугливой семнадцатилетней девочки; где теперь сама эта девочка? Проходя через район Camden Market, я наблюдала перед «своим умственным взором», как говорили в XIX веке, совсем другие виды.
*
Я родилась в том же году, когда Советский Союз перестал существовать. Первые шестнадцать с небольшим лет своей жизни я провела в Лютово, достаточно крупном селе ***ской области в Европейской части России. В селе имелась средняя общеобразовательная школа, которую я и посещала до конца десятого класса.
Эту часть своей жизни я сама не воспринимала всерьёз. Были в ней и подростковые влюблённости, и радость, и горькие обиды, и открытия, но в целом я очень тосковала, живя в деревне и много если четыре раза в год выбираясь в областной центр. Автобус до города шёл всего час, отправляясь три раза в день. Много это или мало – час? К шестнадцати годам своей жизни я стала экспертом в знании о том, что час – это ужасно. Час – обманчивая географическая близость, которая сегодня дарит тебе надежду, а завтра ты понимаешь, что в твоём дне с его рутиной нет этого часа (верней, двух-трёх часов). Может быть, к концу недели… Этот конец недели никогда не наступит, слышите?
В шестнадцать лет я познакомилась в городе на олимпиаде по английскому с мальчиком, и как-то сильно, не по-детски в него влюбилась. А сейчас даже имя его вспомнить не могу: что-то на И… Вот тогда-то я и стала экспертом в этом знании: только в первый месяц нам удавалось видеться каждую неделю. О чём-то подобном пишет, кажется, Набоков в «Машеньке», самой лучшей и самой русской своей повести, которой, конечно, и в подмётки не годится никакая «Лолита». (В отличие от Набокова, у нас даже попытки телесной близости не было, хотя мальчик, наверное, был не против… понимаю я задним умом, а тогда я ничего не понимала и не видела.) Итак, свидания становились всё реже и постепенно сошли на нет, остались короткие сообщения и письма… но что письма? Письма тоже прекратились; в одном из последних мальчик намекнул на своё новое знакомство. Я сухо пожелала им счастья. И даже не сухо: от всей души! Но в чёрный список, конечно, добавила, и подушку за ночь, конечно, промочила слезами. Вот тогда положился, наверное, первый кирпичик ещё другого моего знания: знания того, что хороший, замечательный, даже любимый человек – не всегда человек настойчивый или стойкий. Значит, вес своей души на другого человека перекладывать нельзя, а нужно его всегда нести самой. Silentium,17 как говорил Тютчев: стихотворение колоссального размера. И очень женское при том.
Мой отец, Сергей Иванович, был приходским священником единственного на селе храма. Отца я любила, уважала и до какого-то времени боялась, даром, что за всю жизнь он ни разу, кажется, даже голоса на меня не повысил. Было в нём что-то углублённое, что-то неотмирное, что заставляло меня, только формирующуюся, но любопытную женщину, задаваться если не внятно оформленными мыслями, то полусознательным недоумением о том, зачем он, с его скрытыми талантами и умственной энергией, добровольно сослал себя в Лютово и взял на себя крест сельского иерейства. Впрочем, в безумные девяностые жизнь на селе являлась одним из вариантов того, как физически выжить: у нас был большой огород, мýка моего детства. Если бы приход вообще перестал давать денег, мы могли бы с трудом, но пережить зиму на собственной картошке.
На нашем быте священство моего отца почти не сказывалось, то есть, собственно, совсем не сказывалось, за одним исключением: перед общим обедом или ужином отец читал за столом молитву. (Мы при этом молчали.) Некоторые британцы и многие американцы до сих пор так делают, и что же, разве это знак какой-то особой набожности? Скорее, культурной привычки. Подрясника отец в быту тоже не носил и внешне ничем не отличался от отцов моих подруг. Никто не вёл со мной катехизических бесед; никто не принуждал меня ходить в храм и принимать причастие. Своим подростковым умишком я всё же понимала, что мне, «поповне», совсем не жить церковной жизнью вроде бы неприлично, люди будут судачить, в селе ведь все знают друг друга, – и поэтому в храме иногда появлялась: в основном – на Пасху и на Рождество. Никакой особой религиозности мне это не прибавило, хотя, думаю, и не убавило. Прибавило несколько гордых мыслей: наш хор из трёх старух, думала я, поёт совсем нескладно, даже ведь и петь не умеют, я бы и то лучше спела. Ах, какое захолустье!
К причастию меня допускали без исповеди, что, кажется, неканонично, точней, не в церковном обиходе. Перед тем как дать мне первое причастие (мне было что-то тринадцать лет, по представлениям большей части воцерковлённого народа поздновато), отец наклонился ко мне и шёпотом сказал:
– Причащать без исповеди нехорошо, а вовсе не причащать ещё хуже. Ты можешь исповедоваться в любое время, а насильно я тебя исповедовать не буду, это бестактно. Понятно?
Я испуганно кивнула: я едва ли даже вполне понимала значение слова «бестактно», только смутно его чувствовала, и уж тем более не понимала тогда, почему это бестактно. Я вообще этого человека в шитой золотом фелони с трудом воспринимала в качестве родственника.
Помню, в четырнадцать лет я была даже обижена на отца: обижена этим его невмешательством, которое так сильно смахивало на равнодушие. Теперь, конечно, я не думаю, что это было равнодушие. Думаю, что это был именно такт (какое хорошее и какое нерусское слово!), высшая степень священнического такта, которая видит целью церкви приведение к Богу, а не насильственное вталкивание молодого человека в саму церковь, верней, в её душный притвор, где люди сплетничают, строят козни, осуждают друг дружку и злобствуют точно так же, как и снаружи. Полагаю, мой отец считал, что в этом деликатном приведении первый шаг делает сам человек, что никакая степень родства не может здесь ничего изменить или отменить необходимость этого первого шага. Такой подход – истинное парение в разреженном воздухе суровых евангельских высот, недаром ведь Христос на свадьбе в Кане Галилейской обращается к Своей матери с жутковатыми словами: «Что Мне и Тебе, Жено?»18 – то есть «Что тебе, женщина?» It gives me goosebumps,19 без всяких шуток. Не думаю, что доросла до этих высот, тем более подросток на цыплячьих крыльях своего подросткового разумения не может взлететь до них, и поэтому не уверена даже сейчас, что мой отец был полностью прав. Может быть, лет через десять я увижу это совсем другими глазами… Буду ли я, однако, жива через десять лет?
Моей маме, Елене Львовне, такта не хватало в той же мере, в какой у отца он был в изобилии. Дурно всё это, наверное, писать и даже об этом думать, но свою маму я всегда видела как некую преувеличенную и карикатурную форму самой себя. Потому, может быть, никакой особой душевной близости между нами и не было: были обиды, были слёзы, как всегда бывает в случае сверхзаботливой матери (хорошо ли я на русский перевела over-protecting?) и свободолюбивой дочери, но даже и те – до известного предела. Настоящие, глубокие обиды людей друг к другу привязывают, ведь недаром говорят, что ненависть ближе к любви, чем равнодушие. А я и обидеться всерьёз не могла: то ли боялась быть с ней слишком серьёзной, то ли не могла на неё глядеть без любопытствующего недоумения, брезгливого недоумения. Как это всё, однако, дурно… Но как и не писать? Перед кем-то мне надо исповедоваться и, за отсутствием православного прихода в районе Camden Town, буду исповедоваться бумаге.
Или я что-то предчувствую? Говорят, накануне смерти люди ударяются в воспоминания – но что за вздор, правда?
Да, правда: как мне было всерьёз обижаться, если мама, точь-в-точь как тогдашняя я под увеличительным стеклом возраста, считала, что село губит её амбиции, способности, в конце концов, её юность, даром что когда мне было шестнадцать, ей очевидным образом было хорошо за тридцать? Работала мама в сельской администрации кем-то вроде секретаря: заурядная, конечно, должность, но для села совсем неплохая, а многие люди и в городе всю жизнь работают на таких должностях, казалось бы, чего роптать на жизнь? Ан нет: ей виделось, что коллеги по работе её обходят и задвигают в дальний угол, всё из-за её собственной незлобивости и чистоты души, хотя куда уж дальше, уже совсем некуда дальше, дальше – только похоронить её за плинтусом; что в ином месте её бы узнали – оценили – полюбили… Порой на неё находил шалый стих, и она начинала причитать, что вот ведь и дочка, такая талантливая девочка, такая наша звёздочка в навозной дыре, тоже сгинет на селе за понюшку табаку, даже образования не получит, забеременеет в семнадцать лет, станет женой механизатора – и я, хоть в другие дни готова была подписаться под каждым словом, вовсе не спешила соглашаться вслух с её ламентациями. Во-первых, я всё же не собиралась беременеть в семнадцать лет и выходить замуж за механизатора, так может, думала я, не надо решать за меня заранее и пытаться меня сглазить на ровном месте? Во-вторых, все эти камни были нацелены в огород отца, конечно. Я была очень невыразительной поповной, знаю и винюсь задним числом, если нужно виниться, впрочем, винюсь добровольно, охотно; но вот мама, увы, была вовсе никудышной матушкой. Не знаю, была ли она в какой-то период жизни или даже случайным образом неверна отцу – не знаю и поспешно отвожу глаза, убираю от этой темы руки за спину: дети в любом возрасте не должны знать об этой стороне жизни своих родителей, не должны даже догадываться. Я, к счастью, долго и не догадывалась, а будучи слишком занята своими собственными подростковыми страданиями, не умела заметить и сопоставить фактов. Я наблюдала только скандалы, бурные, с судорожными рыданиями, с обещаниями развестись – то есть только с маминой стороны, конечно. Со стороны отца неизменно было усталое терпеливое спокойствие, о которое разбивались все эти крики, рядом с которым они всё время сходили на нет. Отец мог быть уступчивым сколько угодно, мог уступать бесконечно, но никогда не поддавался на эмоциональный шантаж. Разводиться? Хорошо. Давай назначим дату, сходим в администрацию села, это сделают за пять минут. Что скажут люди? (Это мама уже сдавала назад.) Ему всё равно, что они скажут. Подумал ли он, что люди скажут о ней? Да, подумал, и именно поэтому говорит, что идея – не самая лучшая. Но настаивать не будет, так как идея жить с нелюбимым человеком – тоже очень так себе. А вообще, что заслужила, то и скажут, так как Бог редко промышляет иначе. Перед Богом мама отступала и заходила с фланга: подумал ли он, как она будет жить с дочкой после развода? (Тут у меня всё вскипало: а меня-то спросить не забыли, с кем я собираюсь жить?) Нет, спокойно отвечал отец, про неё он не подумал. А разве должен он думать о ней как о чужом человеке, которым она станет ему после развода, или о сотне тысяч других чужих женщин? Даже Христос советует возлюбить ближних, а не посторонних. Что касается дочки, то… он наверняка стремился высказать простую мысль о том, что мнение дочки нужно узнать у неё самой, но обычно не успевал: на этом месте мама начинала рыдать в голос. Дальше, в зависимости от настроения, она могла или затихнуть, или, лихорадочно собравшись, выйти, хлопнув дверью, пропасть на два дня. Отец никогда не комментировал эти исчезновения, а на мой заданный однажды вопрос ответил, что мама, дескать, уехала к бабушке Лизе.
Мне было жалко отца, я безотчётно чувствовала, что бóльшая правда на его стороне, пусть и не вся. Но сказать об этом я стеснялась: дети с родителями о таких вещах не говорят, в России как минимум. (И к счастью, правда?) Да и эту пропасть между таким далёким, нездешним им и такой простой собой я не знала, как перешагнуть, даже не знала, где к ней подступиться. А ещё мама, уже хлопнувшая дверью, вдруг как-то вворачивалась в мой ум и начинала внутри него требовательно говорить о том, что я должна поддерживать её, хотя бы из женской солидарности. Хорошо, хорошо, стыдливо отмахивалась я… В итоге я просто говорила отцу:
– Мне приготовить ужин?
После ужина, вернувшись в общую комнату, мы иногда вели разговоры, короткие или длинные, как придётся. Никогда – о повседневности. Отец, отстранённо полуулыбаясь в бороду, мог запросто выдать что-то вроде:
– Как тебе нравится тот ответ, который Алёша даёт Ивану?
Какой Алёша, какой Иван? – недоумевала я. Отец пояснял: это – из «Братьев Карамазовых». И неторопливо, даже медленно, невозмутимо, будто моя мать час назад не хлопнула дверью, прокричав, что её ноги больше здесь не будет, будто это вообще не имело значения, объяснял мне суть разговора между Алёшей и Иваном, бунт Ивана и Алёшин ответ на этот бунт. Говорил он очень простыми словами, но я еле поспевала за ним: мне было всего шестнадцать лет! И одновременно мне было ужасно лестно то, что со мной всерьёз, как с равной, разговаривают о таких больших вещах. Само собой, желание прочесть «Карамазовых» у меня тоже появлялось. Я читала их и вместе с Алёшей, бросившимся на монастырскую землю, снова плакала в подушку.
Не знаю, насколько своевременными были все эти разговоры тогда, для шестнадцатилетней девочки, но думаю, что смыслы, вброшенные через них в мой ум, стали прорастать после – может быть, они прорастают и сейчас. Непосредственный результат этих бесед был, скорее, отрицательным: я ещё выше задирала свой глупый очаровательный носик, с ещё бóльшим презрением поглядывала на одноклассников, которые, дурни такие, не читали «Карамазовых» – а я читала! – ещё больше томилась «в этом болоте».
Вот и мама моя тоже томилась, тоже страдала… Мне, такой умненькой и такой глупой шестнадцатилетней, её страдания казались пошлыми. Да, вот подходящее слово!, думала я. Что, неужели мужик тебе нужен, который посмотрит на твои неоценённые тридцатилетние прелести? – беспощадно рассуждала я. (Я телесно созревала и начинала понимать, начинала примечать такие вещи.) Так разводись с отцом и дуй на все четыре стороны! Я останусь с ним – до конца десятого класса как минимум. А потом выйду замуж за Игоря. (Ура, вспомнила имя мальчика, с которым познакомилась на олимпиаде по английскому!) Или нет, тоже глупость: зачем замуж так рано? Добьюсь всего сама, стану известной художницей, на вырученные от работы деньги куплю виллу на морском побережье в Италии, а то ещё напишу роман о горькой доле женщин в России, над которым каждый его читатель обольётся слезами и вдохновится исправить мир к лучшему, получу Нобелевскую премию по литературе – и вот тогда милостиво допущу до себя Игоря. А то подумаю, допускать ли… Мамины попытки ревниво определять все мелочи моей жизни, запрещать мне, к примеру, возвращаться домой после десяти вечера меня уже не сердили, а, скорее, смешили. Кто она такая, чтобы мне, юному творцу, быть моральным авторитетом? (Я уже начинала потихоньку рисовать, учась технике по коротким видео из Сети, и свои первые опыты воспринимала, безусловно, очень всерьёз.) Я научилась не ссориться, а с улыбкой говорить: хорошо, мамочка, конечно! И невозмутимо приходила домой в половине двенадцатого. Мама кривилась, но молчала – до поры до времени.
До поры до времени: однажды её всё же прорвало. Был апрель: я вернулась что-то около одиннадцати вечера на последнем автобусе из города, после моей долгой и очень грустной прогулки с Игорем, которая, как стало ясно позже, оказалась последней (через неделю Игорь мне прислал то самое памятное письмо, в котором обмолвился про Олю). Мама устроила скандал прямо в сенях нашей избы, крича о том, что я непременно закончу жизнь где-нибудь в канаве с перерезанным горлом, если не перестану так себя вести. Я, подпирая стенку, изучая грязный нос своей туфли, молчала и всем видом стремилась демонстрировать независимость и равнодушие, ту самую каменную стену своего отца, о которую разбиваются все женские вопли. Сердечко, однако, подрагивало, больше от гнева, чем от страха: не было у меня ни отцовской невозмутимости, ни его опыта. Не выдержав, я, наконец, перебила:
– …Извини, пожалуйста: у тебя нет морального права мне это всё говорить. Никакого морального права. Где ты сама была две недели назад, когда на два дня снова якобы уехала к бабушке Лизе? Ты не в курсе, что я тоже была в субботу в городе и тоже заходила к бабушке Лизе? Сюрприз-сюрприз! Бабушка-бабушка, почему у тебя такие большие зубы? Ну, или другие части тела…
Мама дала мне звонкую оплеуху. (Я её заслужила, пожалуй, если расчесть это задним умом.) Замерла, тяжело дыша, не зная, что делать дальше. Я, приложив ладонь к щеке, глядела ей в глаза. Ещё меня бить будут в этом доме? Нет уж, спасибо!
– Что ты там говорила про то, что если приду после десяти, могу вообще не возвращаться? – сказала я вслух. – Мне не нужно повторять несколько раз, я понятливая!
Я повернулась, чтобы выйти – мама схватила меня за правое запястье – я, полуобернувшись, с неожиданной взрослой злостью сильно и хлёстко ударила по её руке свободной левой ладонью, вырвала правую руку, вышла на улицу с гордо поднятой головой.
Идти мне было некуда, совсем некуда, но я пошла на остановку автобуса, конечно, и остановила первую попутку. Семнадцатилетняя девочка в глухой деревне около полуночи выходит на трассу и тормозит первую попавшуюся машину: сколько, спрашивается, ума есть в её умненькой головке? Мне повезло, что водителем оказалась женщина, меланхоличная тётка пятидесяти лет на ВАЗ-2104. Сложись звёзды немного иначе, и… но не будем фантазировать о мрачном. Мы обменялись несколькими фразами: я сообщила водителю, что поссорилась с мамой, она мне – о том, что я ненормальная, я – произнесла гневный монолог о том, что такое нормально и что ненормально, а женщина, пожав плечами, ответила, что ей всё равно. И закурила, стряхивая пепел в окошко.
Оказавшись в городе, я первым делом принялась звонить Игорю. Что Игорь! Игорь наверняка спал десятым сном. Умные мальчики из хороших семей на ночь выключают сигнал на телефоне. И вдруг мой телефон сам зазвонил.
– Игорь! – крикнула я в трубку, не успев даже глянуть на номер.
Нет, это был не Игорь. Это был отец. Он, оказывается, ехал прямо за мной, затормозив какой-то автобус со спортивной командой. Мне было бы несложно подождать его на остановке? Отец прибавил: он не будет настаивать, я могу хоть в эту же секунду ехать к Игорю, если желаю. Но, может быть, лучше сначала поговорить?
– Хорошо, – согласилась я.
Тяжёлый автобус с футболистами притормозил, осел, выдохнул, выпуская отца. В руках у отца был клетчатый плед.
– Я подумал, что ночью может быть холодно, – виновато пояснил отец. – Хотел взять что-то более приличное, но я не разбираюсь в твоих вещах, и времени, знаешь, не было, а ещё эти танцы с саблями задним фоном…
– Спасибо, годится, – сказала я бесцветным голосом и, взяв из его рук плед, накинула себе на плечи. Поднесла сложенные лодочкой ладони к лицу, чтобы проморгаться от слёз. – А носового платка у тебя нет, случаем?
Мы отправились в ближайшее кафе, неожиданно дорогое. Впрочем, за полночь дешёвые не работают. Так как отцы редко посещают кафе со взрослыми дочерями ночью и так как он был в мирском, не в подряснике, мы наверняка гляделись как пара: зрелый дядька и его юная пассия. Посетители за соседними столиками на нас посматривали, официант, однако, не подавал вида. Я немного мстительно заказала жаркое из баранины и красного вина: мол, будете воспитывать, а Васька будет слушать и есть. Папа и бровью не повёл. Более того: он и себе налил вина, пояснив:
– Сейчас хоть и Великий пост, но думаю, что Господь простит.
«Какая ты прелесть!» – чуть не сказала я вслух. Наверное, только в ту секунду я перестала его бояться.
Мы говорили долго, полностью искренне и впервые – о земных вещах, а не о Великом Инквизиторе. Говорила в основном, конечно, я, вылив на голову отца дикий коктейль из моих голубых мечтаний, красно-коричневых возмущений и розовых надежд. Кажется, вилла на итальянском побережье тоже была упомянута. А он вовсе не собирался возражать, просто слушал, внимательно, как слушают взрослую женщину. Подытожил ближе к концу:
– Тебе обязательно нужно поступать – сразу в Академию, если ты так в себе уверена, или, может, в художественное училище – туда тоже большой конкурс. А весь одиннадцатый класс готовиться – и что если тебе перейти в городскую школу?
– И ездить туда каждый день? – усомнилась я. – Первый автобус приходит в 9:05, я не буду успевать на уроки!
– Нет; а вот если бы найти с проживанием…
– А что, есть такие?
– Я могу поговорить с отцом Василием.
– Кто такой отец Василий, и при чём он здесь?
– Отец Василий – важная шишка в епархии, и… как ты смотришь на… только не говори «нет» сразу!
– Папа, я на всё что угодно смотрю замечательно, даже на то, чтобы стать наложницей арабского шейха, я готова к чёрту на рога, лишь бы только не оставаться в Лютово ни одного дня больше!
Отец развёл руками. Юмористически заметил:
– Не спеши к чёрту на рога, а то очень легко можешь там оказаться! У меня, понимаешь, нет знакомого арабского шейха. У меня есть знакомый директор православной женской гимназии. Прямо при гимназии общежитие.
– А… это платно, наверное?
– Да, – признал отец. – Но для детей клириков скидка. И у меня будут деньги на один год. Я откладывал на ремонт фундамента, но это, видишь, стремительно перестаёт быть актуальным…
– Папа, дай я тебя расцелую!
– Желательно не здесь, а то на нас и так косятся…
– Скажи, пожалуйста, почему ты до сих пор не развёлся?
– Тебе будет сложно понять…
– Потому что я полная дура, да?
– Нет, ты очень умненькая девочка… девушка то есть.
– Может быть, уже женщина? – не удержалась я от провокации в духе Лизы Хохлаковой. Отец только поднял вверх ладони, как бы сдаваясь:
– Если девушка – уже женщина, то это её личное дело.
– Даже если она – твоя дочь?
– В этом случае особенно.
– А разве это – не грех, по православному обычаю? – продолжала я его пытать: я не хотела такой его лёгкой капитуляции.
– Видишь ли, чтобы жить «по православному обычаю», нужно иметь большую целость ума, – серьёзно ответил отец. – Но у тебя её нет, так что какой смысл даже вспоминать православие? А слово «грех» очень изношено, им кидаются направо и налево, но ведь если человек делает что-то, у него есть причины это сделать, правда? И, если он наверняка решил это сделать, ты его всё равно не удержишь, верно? Поэтому какой смысл потрясать в воздухе этим жупелом «греха», этим гордым и бессильным словом? Гордые слова вроде «грех» ничего не исправляют, они всего лишь перекладывают ответственность на другого человека, а она на тебе и так уже лежит.