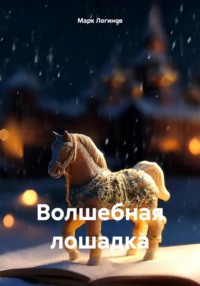Полная версия
Падший ангел
Когда я пришел в себя, всё ещё наполовину пребывая в царстве грёз ввиду крайней и вызывающей опасения слабости, надо мной корпел местный врач – человек честный и добродушный, хоть и осунувшийся на вид – должно быть, его тоже не щадила сложившаяся ситуация, а может, ему доставалось даже больше, чем нам – то есть всем остальным.
Страданий он во всяком случае точно повидал немало, но нельзя и утверждать, что он не знал, на что шёл, хотя это и не отменяет того факта, что сейчас тяжело и ему.
Он с радостью увидел, что я очнулся, и, приложив палец к губам, улыбнулся.
– Не говорите ничего, вы слишком устали. – Тихо и заботливо сказал он, кладя компресс мне на лоб. – Вы пролежали здесь десять дней, и все это время вас нещадно била лихорадка, но сегодня вам лучше, и дай бог, самое страшное уже позади.
Я хотел что-то сказать, но он остановил меня, мягко положив мне руку на плечо, и после некоторой задумчивой и рассеянной паузы, болезненно встрепенулся, как бы вспомнив, где он находится, и снова обратив встревоженный взгляд на меня, продолжал:
– Вы находитесь в крайне неприятном положении, мой друг. Вас будут судить за подстрекательство к мятежу, просто потому, что вы попали не в то место не в то время, насколько я могу судить по тому, что знаю о вас…
Он смерил меня испытующим взглядом.
– И хоть я знаю, как это звучит, но постарайтесь не волноваться – в конце концов, мы ничего с вами не можем сделать. Остаётся только надеяться и уповать на случай, ведь он привёл вас в этот бар, так почему бы ему и не спасти вас из того положения, в которое вы по его вине угодили?
Врач улыбнулся.
– Я буду заходить к вам каждый день, и вам станет лучше. А там, почём знать, может и война закончится. Нам же нужно только надеяться, хотя бы ради нас самих, и поддерживать эту надежду в себе, иначе… Зачем тогда жить?
Он встал, собрал свои вещи и, попрощавшись, ушёл.
Я попробовал было встать, но добился лишь того, что свалился с кушетки и остался лежать на полу – обессиленный, истощавший и до смерти уставший.
Через некоторое время – я затрудняюсь сказать, какое – дверь камеры открылась и грубые руки подняли меня, посадив на кровать, с которой я не замедлил свалиться.
Меня подняли ещё раз, только более раздражённо и попробовали накормить – и хотя большая часть еды всё-таки оказалась где угодно, но только не в моём желудке, видимо, мой тюремщик был удовлетворён и, хлопнув дверью, ушёл, оставив меня одного.
Через окно светило солнце, вычерчивая причудливые узоры на рельефной шероховатой стене камеры, периодически я слышал какие-то шаги или звуки, но меня не покидало ощущение, что мир за окном как будто вымер, весь, и я остался один не только в камере, но и на всём белом свете.
И с такими мыслями, хоть я и не осознавал их (как и самого себя) я погрузился во тьму.
То было только начало моего заключения и злоключения, и я даже представить не мог тогда, сколько оно продлится и как и с чьей помощью оно завершится.
Ясно было лишь одно – это только начало мучений.
4
С тех пор, как я попал в тюрьму, прошло два месяца.
Ежедневные посещения доктора пошли мне на пользу, и постепенно лихорадка оставила меня – врач объяснил, что она была спровоцирована не только порчей желудка дешёвыми эрзацами (хотя возможности достать другой пищи люди моего положения практически не имели), но и общим изнурением сил.
Это был нервный срыв.
Тюрьма же, как это ни странно, как-то даже способствовала моему выздоровлению – ведь хотя я и предоставлен здесь своим собственным мыслям, и кормят здесь ещё хуже, чем на свободе (я порядочно похудел и осунулся, однако температура спала и я чувствую себя несколько более свежим), тем не менее здесь нет нативных раздражителей и прочих вещей, что так настойчиво врываются в вашу жизнь, когда ты живёшь в крупном городе, и расстраивают вам нервы и психику, так что для разума, если не для тела, и моего нестабильного душевного равновесия, нынешнее заключение стало даже в некотором роде лекарством, терапией, которая к тому же сочетается с обыкновенным для человека стремлением жить и возможностью жить, если какие-либо условия, мешавшие этому, устранены.
В общем, даже в своём теперешнем положении я видел плюсы, ибо эта передышка оказалась мне гораздо нужнее, чем я думал раньше.
И только сейчас, когда я могу целыми днями лежать, ни о чем не думая (ибо даже на грубой койке лежать лучше, чем в самой мягкой могиле), и периодически вкушать всякие до нелепости мелкие порции далеко не самого вкусного в моей жизни фрикасе (тем более что он и не так уж сильно отличается от того, что едят свободные люди, хотя им нужно ещё и работать, а откуда брать энергию на работу и семью, когда единственное, что составляет твой рацион, это бледное и не калорийное жидкое мясо?), я по настоящему понял, как устал за последние годы.
И нельзя сказать, что причина, корень моего истощения была в работе, самой по себе – она объективно была не самая сложная, и её не сравнить с теми лишениями, что испытывают граждане нашей страны, добывая уголь в бездонных шахтах или теряя кровь и сознание на передовой – но тут, как и всегда, свое влияние оказывают и другие факторы, и нет ничего такого, что случалось бы само, без учёта взаимодействия с другими вещами, ведь только вместе они дают ту реакцию и последствия, с которыми мы имеем дело и с которыми считаемся.
Некий прогрессивный детерменизм, в специфических условиях нашего века.
И далее – врач тоже не стеснял себя в выражениях и откровенно ругал меня за мой образ жизни – можно назвать и личную предрасположенность ко всякого рода стрессам, и темперамент, который заставлял меня по возможности не общаться с другими людьми лишний раз, дабы не нарушать спокойствия тишины, вследствие чего я вёл малоподвижный образ жизни, моя привычка равнодушно относиться к своему здоровью, а также в целом неблагополучное социальное и экономическое положение в стране, из-за чего ситуация накалилась до предела и напряжение между людьми можно было ножом резать, а черпать силы совершенно неоткуда, так как неурожаи и война сгубили все возможности хоть мало мальски утолять голод населения нашей страны – и всё это приводило к тому, что брожение в обществе, свидетелем которого был я не раз, начинает давать свои первые результаты – и в больницы уже давно поступают жертвы внутреннего кризиса, с душевными болезнями или ножевыми и пулевыми ранениями.
Так что, подытоживая все вышесказанное, действительно не ошибкой будет сказать, что перспектива оказаться в тюрьме была на самом деле не такой уж и мрачной.
Кому-то повезло меньше, и он стал жертвой разъярённых бандитов или правительственных войск, потерявших контроль над собой, а кто-то потерял управление над своим собственным душевным благополучием, не справившись с навалившимися отовсюду напастями.
Новостей я, как следует предположить по тому, что я упоминал об отсутствии раздражителей, не получал – и разве что очень редко, обрывками слышал разговоры охранников о том, что происходит снаружи.
Окно же мое почти не давало никаких сведений – ибо там если и происходило что-то, то не сильно отличавшееся от того беспорядка, который был в полном разгаре когда меня арестовали.
Хорошо, думал я, что не становится хуже.
Плохо то, что казалось бы, куда уж хуже.
Но я даже на свободе не имел возможности повлиять на происходящее, а в тюрьме же имел еще меньше, так что я старался хотя бы не волноваться по поводу вещей, которые не могу изменить.
Я пробовал найти успокоение в книгах, составлявших потрёпанные остатки тюремной библиотеки, и пытался снова приобщиться к сфере культуры, возродить в себе духовное начало и старался не забывать, что я человек, и что сила, породившая порох, свинец и бронемашины, произвела на свет также Моцарта, Шопена, Гайдна и Баха.
Но я не мог представлять их одновременно, рядом друг с другом – это не укладывалось в моей голове, и я, пытаясь познать наш грешный путь со всеми его особенностями, взлётами и падениями, только терялся среди плавающих перед глазами образов, сменяющих друг друга всё быстрее и быстрее, пока на меня вновь не находило безумие.
Тогда вновь вызывали доктора, и по прошествии нескольких дней мне снова становилось лучше, пока в очередной раз мои мысли неконтролируемым образом не прибивало к берегу крамолы и они не отправлялись бродить по опасным пустырям, где им грозила участь затеряться и остаться навсегда в плену у неизвестности, неопределенности и сомнений.
Когда же я приходил в себя, несколько дней я чувствовал себя просветлённым, освежавшим – способствовала этому пришедшая весна, которая нагнала даже в уголки моей камеры лёгкий бриз, напомнивший мне о том, что природа ещё не полностью уничтожена и способна быть не столько компасом для руководства нашем действиями, сколько образцом, примером, напоминанием того, насколько красив и многообразен наш мир, и сколько должно было совпасть случайностей, чтобы появилось хоть самое маленькое дерево, простейшее существо или икринка – но тем не менее, это произошло и больше ни в одной вселенной нет того, что имеем счастье видеть мы, что довелось нам созерцать и осознавать, хоть мы и сами являемся результатом деятельности безмолвной планеты, и наше существование даже не мимолётно, а даже меньше того – и всё равно этот миг освещён отовсюду – как могучим солнцем с неба, так и отзывчивой и яркой палитрой красок на Земле – так крепко взаимосвязанных друг с другом, единственных в своем роде.
Прислушиваясь, я заметил, что и за окном – если так и правда можно назвать вырубленное отверстие в стене – настает тишина и спокойствие, будто умиротворение природы каким-то чудом повлияло и на нас – и вместо того, чтобы жить сцепившимся злобным ненавистным клубком, мы мирно вернулись в лоно семьи, чтобы трудолюбиво заниматься своим делом и никому не мешать, пока наши соседи будут точно так же, пребывая в полной гармонии с природой и сами с собой, заниматься своим.
Но это было хорошо, слишком хорошо, чтобы быть правдой, и я не поверил этому, однако, дождавшись смены одного надзирателя, наименее озлобленного из всех, я спросил, в чем причина такой перемены.
– Знамо в чём. Ведутся переговоры о мире.
Подняв палец для важности, проговорил он.
Затем без лишних церемоний забрал миску и удалился.
Я разлёгся на кровати, глядя в окно, по решеткам которого полз какой-то жук, чей панцирь ярко переливался на закатном солнце.
О таком я и мечтать не мог.
Война идёт настолько давно, что никто уже и не помнит, когда и отчего она началась.
И слово Мир, такое волшебное и эфемерное, казалось мне настолько же непостижимым, как слепому – возможность обрести зрение, или хромому – ходить.
Без поддержки, костылей – идти свободной, гордой и уверенной походкой – идти в будущее, которое столь же лучезарно, как и этот закат и рассвет, что последует за ним.
В этот момент меня неприятно кольнули настигшие мысли о предстоящем суде, который все откладывался по причине внутренней нестабильности, но я так не хотел портить этот убывающий день, озарённый надеждой, приземлёнными думами, что отогнал их от себя как можно дальше.
И лёг спать.
Проснувшись, я сразу вспомнил, с какими мыслями заснул накануне, и с нетерпением ждал охранника, чтобы спросить его о новостях, однако он не пришел в назначенное время, не пришёл и позже.
Изнывая от голода (информационного в том числе), я еле дождался, пока про нас вспомнят, и когда дверь открылась, я уже был на взводе – я сразу спросил про последние новости, и, швырнув миску мне в лицо, охранник объявил: Мира не будет. Можешь расслабиться.
И вышел за дверь.
5
И все рухнуло. Рухнула моя хрупкая система мироздания, сделавшая робкую попытку измениться под давлением обстоятельств, претерпела неудачу попытка стать лучше, найти себя и свой путь, стремление обрести покой в духовности, вся моя теперь такая жалкая рефлексия, чья цель была помочь преодолеть заключение, пошла прахом, и я не добился ничего и не сдвинулся с мертвой точки, совершенно, вернувшись туда, откуда и начал.
Я снова ощутил упадок сил, в изнеможении опустившись на кровать.
Казалось бы, я узнал светлые новости только вчера, чего мне так разочаровываться, но помимо постепенного осознания того, что на мир я подспудно надеялся долго, намного дольше того времени, в котором смею себе признаться, за прошедший вечер и ночь, наполненную самым безмятежным сном за много лет, эта идея успела сформировать столь крепкий остов надежды на будущее счастье и ожидание беспечности, которые соединились с моей бесконечной усталостью и жаждой отдохнуть от войны, которая шла уже, по ощущениям, столетия, что когда и эта иллюзия рухнула, словно стены Иерихона, меня придавила тяжесть не столько того, что я, будучи человеком впечатлительным, успел выдумать и уже свершить в своей голове, сколько закономерный и естественный результат неподвластных моему разуму мыслей, идущих от неудовлетворённости настоящим – а эта мрачная тюрьма, сравнимая лишь с чистилищем, и общая гротескность происходящего наполняли это дополнительным зловещим смыслом и придавали особенную окраску.
В конце концов я второй раз на своей памяти не выдержал столь яростной и безжалостной атаки впечатлений и событий на организм и испытал нервный срыв, впав в беспамятство.
Я рвал свою одежду, рвал книги, выкрикивал фразы из них и периодически приходящие мне на ум аксиомы, которые раньше считал для себя определяющими и непогрешимыми – теперь они казались мне смешными и ничтожными.
Мне казалось ничтожным все.
Я спорил сам с собой, доводя этим себя до исступления, с пеной у рта я носился по камере, бился головой о стены и, хватаясь за решётки своего окна, громко хохотал и вопил, вспоминая свою жизнь и принципы, которых считал нужным придерживаться раньше – столь это было жалким, абсурдным, примитивным.
Как мало я знал, какие ограниченные у меня были взгляды!
Я прохаживался по каждому этапу своей жизни и высмеивал его, время от времени не сумев сдержаться, выкрикивая что-нибудь особенно нелепое, понося свои увлечения и убеждения, и те чрезвычайно мелкие в своей значительности аргументы, которые я приводил.
Вспоминал споры и дискуссии, которые вёл на просторах газет и в хорошо освещённых гостиных и залах – запах пера, любимой еды; дом, в котором вырос; людей, которые составляли мою жизнь – как же это всё казалось далеко, как это было мелко и ничтожно!
Все наши заботы, вся наша деятельность, направленная на достижения кратковременных целей, непостижимых в своей незначительности, наши неправильные приоритеты, неверные ценности, наши причины для тревоги и счастья – какое это всё в конце концов имеет значение в масштабах хотя бы нашей солнечной системы, не говоря уж обо всей вселенной?
Последние слова я выкрикнул, обращаясь к улице за окном, и, наконец, потеряв контроль над собой, начал биться о решётки головой, яростно крича, пока не свалился без чувств.
Последнее, что я услышал, были выстрелы в городе.
Последнее, что я увидел, было лицо Леонарда.
6
Сквозь тучи может солнце просиять,
Тебя зажечь лучом полдневным снова.
Час славы может стать твоим опять,
Грядущий день – сравняться с днем былого!
Джордж Байрон
Леонард стоял, опираясь на танк, в чёрном берете и полном обмундировании, он курил сигару и выглядел среди своих людей чрезвычайно уверенно и спокойно (если он вообще когда-то выглядел неспокойно), несмотря на то, что вокруг гремели выстрели и то и дело падали люди и больше не поднимались.
У меня создалось ощущение, будто стреляют сразу со всех сторон, и я не понимал, кто это делает и зачем, ведь линия фронта очень далеко.
Разве что – мелькнула догадка – это свои стреляют по своим…
Но что за бред, абсурд…
Гражданская война, у нас?
Не может быть…
Поток мыслей был прерван доктором, который напряжённо всматривался в меня и чем-то отирал мне лоб.
На тряпке была кровь.
Врач и сам был ранен – по виску у него сочилась струйка крови, но он не обращал на это внимания.
Увидев, что мне стало легче, его лицо несколько прояснилось, однако грусть и задумчивость обречённости не сходили с него, как печать Танатоса, а сыпавшаяся с потолка штукатурка и пыль очерчивали его лицо, как дешёвый грим в плохоньком театре, но, казалось, что его внешний вид волнует его меньше всего.
Я спросил его, что происходит – спросил с трудом и хрипло (я сорвал голос, по всей видимости), но он не ответил и просто молча покачал головой.
И я снова впал в небытие.
Лёжа во тьме и бессилии, я ощущал лишь, как мои мысли меланхолично находили друг друга, словно бактерии под микроскопом, проникали в других и пожирали третьих – без какой-либо конкретики или глубины, жизнь в них теплилась лишь самая примитивная, и на большее я не был способен, настолько меня измотали мои собственные душевные терзания и приглянулась в то же время в этом мутном бреду и затмении эта аллюзия, но всё же, из-за непроглядного мрака Морфея, до меня доносились какие-то отрывочные звуки – видимо, сражение продолжалось, правда, я не мог понять точнее, что именно происходит в нашем городе и почему доктор был так опечален.
Я не мог предположить даже самое худшее – настолько мои мысли были далеки от того, чтобы не только хоть мало мальски развиваться, но и захватить моё внимание, столь уставшее и рассеянное по всему пространству моего воображения.
Я лишь осознавал, что я ещё жив.
И, какой-то частью своего существования, я осознал, что видел Леонарда.
И произнёс его имя.
Когда я очнулся, доктор всё ещё обеспокоенно сидел надо мной.
Выстрелы раздавались всё реже – похоже, накал сражения всё же, кто бы ни победил, сходил на нет.
Доктор устремил свой усталый сосредоточенный взгляд на меня и спросил, забыв даже померить температуру или о том, что мне не положено волноваться – хотя я его за это не виню – знаю ли я Леонарда.
Я ещё не вполне пришёл в себя и потому переспросил, и врач ответил, что я произнёс это имя во сне, и тогда я наконец прозрел.
– Я видел его, – слабо сказал я доктору, – видел. На площади, перед тюрьмой.
Он кивнул.
– Пришёл наводить порядок. Как и в других городах. Как и обещал.
Я всё ещё не понимал, и он уточнил:
– Мне неизвестно, откуда вы знаете Леонарда, ведь он начал свою, – тут он сморщился, – "карьеру" уже после того, как вы попали в тюрьму. Или же…
Он вопросительно посмотрел на меня, и я попытался кивнуть. Его лоб до известной меры разгладился.
– Тогда понятно. Одни несчастья он приносит, вот уж связались не с тем.
– Я не связывался. – Попытался возразить я. Доктор не спорил
– Может быть. Должно быть, он сам навязался вам – так же, как и стране. И так же, как и стране, он не принёс вам ничего путного – кроме как боли и страданий, даже если заслуженных, то явно не таких и не в такой форме.
– Что происходит, доктор? Что делает Леонард?
Врач усмехнулся.
– Наводит порядок. Как ему это видится.
Он горько развел руками. Показал на свое лицо.
– Вот его порядок, на деле. Пошёл против своих, брат против брата! И когда на фронте такая беда!
Далее доктор смешался от переполнявших его чувств и замолчал, закрыв лицо руками.
Я тоже молчал.
Я хотел выразить врачу свое понимание, сочувствие, благодарность за его доброту и заботливость, поинтересоваться состоянием его родных и его собственным, но поза этого человека как будто отвергала все попытки проникнуть ему в душу, показывала бесплодность их и вкупе с его бескорыстной натурой делала его в моем восприятии каким-то неприступным, даже безличным, бесполым – неким ангелом хранителем, чья жизненная цель состоит лишь в том, чтобы помогать другим, забывая о себе, хоть я и знал в глубине души, что это всего навсего человек, и к тому же очень уставший, но не мог относиться к нему, как к равному – хоть и ответственному за спасение моей жизни.
Для меня он был существом из другого мира.
И потому, когда существо отняло руки от своего лица и показало ясные, заплаканные голубые глаза, мне было трудно заставить что-то сказать, но я нашёл в себе силы спросить его.
Да, все мертвы.
Леонард их убил.
Не лично, разумеется, но ответственность в первую очередь лежит на военачальниках, а не на их солдатах.
– Единственное, что он с собой принёс – это безнадёжность и разрушения.
Помолчав, сказал доктор.
– И смерть.
Он глотнул из бутылки, принесённой с собой.
Выстрелы раздавались всё реже.
Внезапно доктор посмотрел на меня.
Пристально, испытующе – чем сразу поверг меня в нервозность.
Через некоторое время он сказал, видимо, сочтя меня достаточно сильным, чтобы выслушать новость:
– В вашем деле есть подвижки. Суд назначен на следующее воскресенье. Не спрашивайте, почему.
Я попросил доктора дать мне бутылку и он не возражал.
Казалось, мы оба истощили все свои запасы нервов и эмоций, и нас ничем нельзя было уже удивить.
Странное мы представляли собой зрелище – грязные, окровавленные мужчины, пьющие в открытой камере с рушащимся потолком посреди разваливающейся в братоубийстве страны.
Воскресенье так воскресенье.
А виски то, хорош…
Я посмотрел на доктора.
– 1870 года. – ответил он. – Выдержанное.
7
Как часто с этой крутизны,
Где птицы жадные кричат,
Под гул крутящейся волны
Смотреть я буду на закат.
Роберт Бёрнс
Дни сменялись ночами, за солнцем приходила луна.
Тишина, установившаяся было на улице, вновь наполнялась звуками – или же я своим отчаянием обречённого довёл до предела свои органы восприятия мира и чувственность, в безнадежной попытке вобрать в себя весь свет, тепло, счастье и звуки внешнего мира – мира, который был и моим.
Я подставлял лицо солнцу, когда оно на несколько минут в одно и то же время заглядывало в мою камеру, если только не было скрыто тучами, слушал пение птиц, смотрел за их небесными безмятежными играми сквозь зарешеченное окно, как прикованный пёс смотрит на опьянённых своей свободой дворовых собак, вольных пойти куда им только вздумается – весь мир у их ног, или лап, и всё, что следует сделать – это распахнуть дверь и протянуть руку.
Кто-то боится свободы, для него такое незаполненное, открытое пространство смерти подобно, воплощению худшего кошмара – навроде избытка кислорода в организме, ведь это пространство нужно заполнить, а отсутствие воображения и наработанная привычка лишь бездумно выполнять приказы или следовать общественным формулам счастья и мечты, гонясь за тем, за чем и другие – ради самой гонки, ибо итог её непостижим в своём отсутствии смысла для большинства – привело к тому, что многие из числа нашего поколения не могут чувствовать себя в безопасности, наедине с самими собой и своими мыслями, у них нет души, идей, желаний – всё, что у них было, было чужое.
А так как любая, даже самая хорошая копия, будет бездушной, без сердца и смысла – то если она будет у всех, люди разучатся думать, мечтать, ведь перед глазами будет как постоянный пример маячить доказательство того, что всё придумано за нас, и зачем исследовать лабиринты и потёмки нашей души и человеческого потенциала, если можно слепо следовать точным и надёжным формулам, которые сделают тебя если не счастливым, то полноправным членом общества?
Мне швырнули миску в камеру даже грубее обычного.
Это компенсация, отдушина для охранника – ведь перед смертью мне полагается порядочный завтрак, хотя вряд ли мне его предоставят, учитывая продовольственный дефицит в нашей стране.
Почему я думаю, что меня казнят всего лишь за присутствие на митинге?
Все в этом уверены.
Охранники, по крайней мере, так точно, а они составляют единственное общество, с которым я могу поддерживать контакт.
Почему они так считают, они не распространяются, но я и сам был на множестве процессов и видел, хоть и опосредованно, через людей кнута и пряника (или только кнута) и скверного образования, что происходит в стране – с такими как я, не церемонятся.