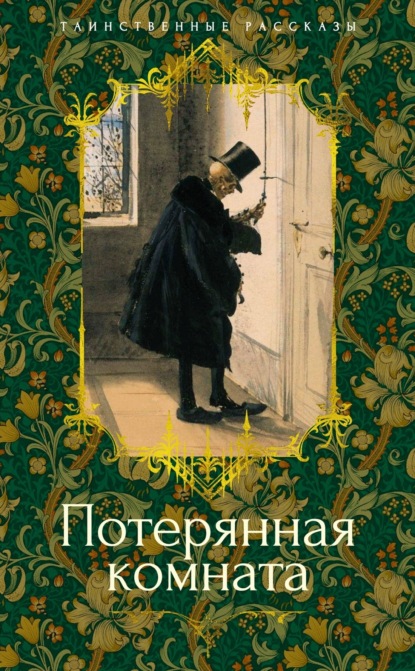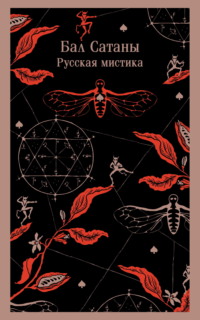Полная версия
Пиковая дама
Не знаю, что-то подталкивало меня в спину, когда я вышел из местечка; месяц светил так, что можно б было искать булавок по тропинке; тени от деревьев и кустов, казалось, протягивали ко мне длинные руки и хотели схватить за полу; совы завывали по рощам и как будто напевали мне на душу все страшное. Я шел, скрепя сердце, стараясь ничего не видеть и не слышать и ощупывая наперед бамбуковою своею тростью каждый шаг по тропинке. Так прибыл я к воротам замка или, лучше сказать, к тому месту, где они когда-то стояли; там, на груде камней, увидел я обещанного проводника, черного латника; он отсалютовал мне черным мечом и пошел передо мною. Мы вошли в узкие, сырые переходы, освещаемые только слабою лампою, которую нес мой проводник; ноги мои подкашивались и невольно прилипали к помосту, но я их отдергивал и шел далее; мне что-то шептало: «Надейся и страшися!» – и я с полною доверенностию к знаменитому предку переступал шаг за шагом. Мы остановились у одной двери, за которою слышны были многие голоса; черный латник поставил лампу на пол и ударил трижды мечом своим в дверь: она отворилась, мы вошли… и здесь-то я увидел, когда, опомнившись, мог видеть и понимать.
Посередине стоял стол, покрытый черным сукном; за столом, на старинных, позолоченных креслах, сидел Гогенштауфен, в собственном своем виде. Он по наружности казался бодр и свеж, даже дороден; но смертная бледность и что-то могильное, которое, как белая пыль, осыпалось с его лица, ясно показывали, что это не живой человек, а тень или дух. Волосы на нем были белые и курчавые, как шерсть на шпанском баране; борода длинная и мягкая, как лен: эта борода закрывала ему всю грудь и падала на колена. Только серые глаза его бегали и сверкали как живые. На нем была белая фланелевая мантия особенного покроя: шлейф от нее лежал далеко по помосту, а полы закрывали все ноги, так что я не мог видеть, какая была обувь у моего предка. Перед ним была раскрыта роковая книга в черном сафьянном переплете, с золотым обрезом и медными скобками. По обе стороны его, на помосте, что-то пылало в двух больших черных вазах и разливало бледный синеватый свет и сильный спиртовой запах. Чем дале я всматривался в лицо старого Георга, тем больше находил в чертах его что-то знакомое… и, как хочешь спорь, друг Нессельзамме, а я все-таки не отступлюсь, что между предком моим и тобою есть какое-то сходство… Не скажу, чтобы большое, потому что вид его гораздо важнее и благороднее; а есть что-то… Недаром во мне всегда было к тебе некоторое непонятное, сверхъестественное влечение.
– Полно, полно! – подхватил пивовар, покусывая себе губы с какою-то принужденною ужимкою, – тебе так показалось… Ночь, слабое освещение, невольный страх и тревога чувств… словом, тебе так показалось.
– Ну, как тебе угодно, а я все на том стою. Да полно об этом: мы вечно будем спорить и вечно не согласимся, и я по всему вижу, что тебе крайне нелюбо сходство с выходцем из того света.
Во все то время как я его рассматривал, старый Гогенштауфен не спускал глаз с своей книги и как будто бы не замечал меня. Должно думать, что он с намерением давал мне досуг оправиться от страха и удивления: ему хотелось, чтоб я с свежею по возможности головою выслушал его слова, мог их обдумать и отвечать порядком. Наконец он поднял глаза с книги, оборотил их ко мне и сказал глухим и протяжным голосом, в котором было что-то нетелесное:
– Иоган Готлиб Корнелиус, потомок заглохшей отрасли рода Гогенштауфен! Я заботился о тебе. Здесь вызывал я из гробов тени минувших потомков моих и спрашивал их совета, как восстановить и прославить твое поколение. Внемли приговор их и мой: у тебя одна дочь; с нею потомство твое должно перейти в род посторонний; но род сей должен быть достоин столь блестящего отличия. Я избрал ей супруга, и все потомки одобрили мой выбор. Это Эрнст Герман. Он, как и ты, отрасль рода славного, кроющаяся в тени безвестности. Родоначальник его древнее всех нас, и есть знаменитый Герман, давший имя свое всем племенам германцев, тот Герман, которого полудикие завоеватели, римляне, своевольно в летописях переименовали Арминием[33]. Не стыдись и не презирай бедности Эрнста Германа: я его усыновил; потомству его чрез несколько колен предопределены судьбы славные. Обилие и слава будут его уделом, и Золотое Солнце воссияет лучами непомрачаемыми. Прощай! время мне отправиться в путь далекий и устроить жребий других моих потомков. Будь счастлив и успокой дух свой.
Я отдал земной поклон великому моему предку и от полноты чувств не мог сказать ни слова, даже долго не мог приподнять головы; когда же встал, то ни его, ни книги уже не было; пламя в вазах погасло, и надо мной стоял черный латник с своею лампою. Он подал мне знак идти за ним; мы вышли из-под сводов; он остановился на том самом месте, где я нашел его при входе в замок, указал мне дорогу черным мечом своим – и вдруг мелькнул куда-то, так что я больше его уже не взвидел. Одинок пошел я по тропинке. Голова у меня кружилась, чувства волновались; бессонница, произвольный пост, чудное видение… словом, все это вместе было причиною, что я без памяти упал на половине дороги…
Когда я очнулся, то увидел, что лежу на постеле, в своей комнате. Минна сидела у моего изголовья и плакала; Эрнст Герман стоял передо мною с скляночкой лекарства и ложкою; старик-кистер поддерживал мне голову, а доктор наш, Агриппа Граберманн, щупал пульс и смотрел мне в лицо с самою похоронною рожей. Сосед Нессельзамме печально сидел сложа руки на моих креслах и о чем-то думал; а Казимир, тоже не с веселым лицом, стоял у дверей, как на часах, и, видно, ждал приказаний. Я оборотился к Минне, улыбнулся, взял ее за руку, сделал знак Эрнсту, чтоб и он подал мне свою руку, – сложил их руки вместе и слабо проговорил: «Соединяю и благословляю вас, дети!» – «Это все бред!» – подхватил доктор. «Сам ты бредишь, г-н приспешник латинской кухни», – отвечал я ему таким голосом, который всех уверил, что я в полной памяти. Надобно было видеть общую радость! Минна, Эрнст, старик-кистер, сосед Нессельзамме, Казимир Жартовский – все бросились ко мне и задушили было своими поцелуями. Один доктор Граберманн оставался холодным зрителем и упрямо твердил, что я в бреду и что горячка еще не миновалась.
Остальное доскажу вам в коротких словах. Сосед Нессельзамме, вышед рано из дому за каким-то делом, нашел меня без памяти на тропинке, тотчас позвал Казимира и еще двоих соседей, и общими силами принесли меня домой. Чтобы не испугать Минну, они положили меня тихонько в моей комнате, потому что второпях я не запер ее перед уходом. Позвали доктора, который заметил во мне признаки горячки и, рад случаю, начал в меня лить свои лекарства. Когда я опомнился, то был уже девятый день моей болезни. После Минна мне рассказывала, что в бреду я беспрестанно твердил о Георге фон Гогенштауфене, о черном латнике, о ней самой, об Эрнсте Германе и, не знаю, по какому странному смешению понятий, о соседе Нессельзамме и о Казимире Жартовском. Я скоро оправился от болезни и скоро пировал свадьбу Минны с Эрнстом Германом, которого принял к себе в дом как сына и наследника. Вот уже восемь месяцев, как мы живем вместе, счастливы и довольны своим состоянием и благословляем память и попечения о нас великого Георга фон Гогенштауфена.
* * *Трактирщик кончил свой рассказ. Минна и Эрнст Герман взглянули на нас такими глазами, в которых можно было прочесть сомнения их насчет чудной повести и желание знать, как мы ее растолкуем? Но ни я, ни товарищ мой, по данному от меня знаку, не показали на лицах своих ничего, кроме удивления; словом, мы делали вид, что поверили всему сполна. Я заглянул в лицо лукавому пивовару: он очень пристально смотрел на свою трубку и как будто бы глазами провожал вылетавший из нее дым. Гроза утихла, тучи разошлись, луна взошла в полном сиянии, и мы, взяв себе проводником Казимира Жартовского, ходили осматривать замок…
– И теперь гроза утихла, – сказал кто-то из гостей, посмотрев на часы. – Половина одиннадцатого: пора пожелать доброго вечера почтенным нашим хозяевам.
Гости встали с мест и велели подавать свои экипажи.
– А что ж ваши сны, которые так вас тревожили ночью? – спросил у путешественника любопытный провинциал.
– Сны мои были, как и все сны, – отвечал он, – смесь всякой небылицы с тем, что я видел и слышал.
– Что же вам говорил о трактирщиковом видении поляк, когда провожал вас к замку?
– Он притворился, будто ничего не знает и всему верит.
В это время слуга вошел сказать, что лошади готовы. Мы простились с хозяевами и разъехались в разные стороны.
Примечание
Нужно ли отдавать отчет читателям в побуждениях или причинах, заставивших написать какой-либо роман или повесть? Многие большие и малые романисты, люди, без пощады строгие к самим себе и своим читателям, полагают, что это необходимо, и для того пишут длинные предисловия, послесловия и примечания. Чтобы не отстать от многих, и я хочу здесь в коротких словах сказать по крайней мере о том, что подало мне повод написать помещенную здесь повесть, и о том, сколько в ней правды и неправды.
В 1820 году, проезжая чрез Гельнгаузен, нашел я там в трактире Золотого Солнца объявление, что за девять гульденов продается в нем: Зáмок Фридерика Барбароссы, близь Гельнгаузена, исторический роман, в коем выводится на сцену тень Гогенштауфена. Я тогда же записал это и недавно отыскал сию записку в путевой моей книжке. Замок стоит точно на таком местоположении, какое описано мною в повести. Поляк гауз-кнехт, говорящий по-русски и на разных других языках, есть также лицо невымышленное. Не знаю, так ли точно честолюбив хозяин трактира Золотого Солнца; но знаю, что общая страсть всех путешественников – прикрашивать свои рассказы: и мой не вовсе свободен от этой страсти.
Что касается до тени Гогенштауфена, то я в отношении к ней не слишком придерживался исторической истины Шписовой, а – винюсь – выдумал нечто похожее на предание или поверье народное, будто бы насчет ее существующее. Таким образом, она не перестает у меня посещать здешний мир, и не в начале каждого столетия, а через двести лет. Оставляю на выбор, верить Шпису или моему трактирщику.
О. Сенковский
Большой выход у Сатаны
В недрах земного шара есть огромная зала, имеющая, кажется, 99 верст вышины: в «Отечественных записках»[34] сказано, будто она вышиною в 999 верст; но «Отечественным запискам» ни в чем – даже в рассуждении ада – верить невозможно.
В этой зале стоит великолепный престол повелителя подземного царства, построенный из человеческих остовов и украшенный вместо бронзы сухими летучими мышами. Это должно быть очень красиво. На нем садится Сатана, когда дает аудиенцию своим посланникам, возвращающимся из поднебесных стран, или когда принимает поздравления чертей и знаменитейших проклятых, коими зала при таких торжественных случаях бывает наполнена до самого потолка.
Если вам когда-либо случалось читать мудрые сочинения патера Бузенбаума[35], иезуитского богослова и философа, то вы знаете – да как этого не знать? – что черти днем почивают, встают же около заката солнца, когда в Риме отпоют вечерню. В то же самое время просыпается и Сатана. Проснувшись, он надевает на себя халат из толстой конвертной бумаги, расписанный в виде пылающего пламени и который получил он в подарок из гардероба испанской инквизиции: в этих халатах у нас, на земле, люди сожигали людей. Засим выходит он в залу, где уже его ожидает многочисленное собрание доверенных чертей, подземных вельмож, адских льстецов, адских придворных и адских наушников: тут вы найдете пропасть еретиков, заслуженных грешников и прославленных извергов вместе с теми, которые их прославляли в предисловиях и посвящениях, – словом, все знаменитости ада.
Заскрипела чугунная дверь спальни царя тьмы; Сатана вошел в залу и сел на своем престоле. Все присутствующие ударили челом и громко закричали: виват! – но голоса их никто б из вас не услышал, потому что они тени и крик их только тень крика. Чтобы услышать звуки этого рода, надо быть чертом или доносчиком.
Лукулл[36], скончавшийся от обжорства, исправляет при дворе его должность обер-гофмейстерскую: он заведует кухнею, заказывает обед и сам подает завтрак. Как скоро утих этот неудобослышимый шум торжественного приветствия, Лукулл выступил вперед, держа в руках колоссальный поднос, на котором удобно можно было бы выстроить кабак с библиотекою для чтения: на нем стояли два большие портерные котла[37], один с кофеем, а другой со сливками; римская слезная урна, служащая вместо чашки; египетская гранитная гробница, обращенная в ящик для сахара, и старая сороковая бочка, наполненная сухарями и бисквитами для завтрака грозному обладателю ада.
Сатана вынул из гробницы огромную глыбу квасцов – ибо он никакого сахару, даже и свекловичного, даже и постного, терпеть не может – и положил ее в урну; налил из одного котла чистого смоленского дегтю, употребляемого им вместо кофейного отвара, из другого подбавил купоросного масла, заменяющего в аду сливки, и черную исполинскую лапу свою погрузил в бочку, чтобы достать пару сухарей.
Но в аду и сухари не похожи на наши: у нас они печеные, а там – печатные. Попивая свой адский кофе, царь чертей, преутонченный гастроном, страстно любил пожирать наши несчастные книги в стихах и прозе, толстые и тонкие, различного формата произведения наших земных словесностей; томы логик, психологии и энциклопедий; собрания разысканий, коими ничего не отыскано; историй, в коих ничего не сказано; риторик, которые ничему не выучили, и рассуждений, которые ничего не доказали, особенно всякие большие поэмы, описательные, повествовательные, нравоучительные, философские, эпические, дидактические, классические, романтические, прозаические и проч., и проч. С некоторого времени, однако ж, он приметил, что этот род пирожного обременял его желудок, и потому приказал подавать к завтраку только новые повести исторические, писанные по последней моде; новые мелодрамы; новые трагедии в шести, семи и девяти картинах; новые романы в стихах и романы в роде Вальтера Скотта; новые стихотворные размышления, сказки, мессенияны и баллады, – как несравненно легче первых, обильно переложенные белыми страницами, набранные очень редко, растворенные точками и виньетками и почти столь же безвредные для желудка и головы, как и обыкновенная белая бумага. Сухари эти прописал ему придворный его лейб-медик, известный доктор медицины и хирургии, Иппократ[38], убивший на земле своими рецептами 120 000 человек и за то возведенный людьми в сан отцов врачебной науки – впрочем, умный проклятый, который доказывает, что в нынешнем веке мятежей и трюфлей весьма полезно иметь несколько свободный желудок.
Сатана вынул из бочки четыре небольшие тома, красиво переплетенные и казавшиеся очень вкусными, обмакнул их в своем кофе, положил в рот, раскусил пополам, пожевал и – вдруг сморщился ужасно.
– Где черт фон Аусгабе? – вскричал он с сердитым видом.
Мгновенно выскочил из толпы дух огромного роста, плотный, жирный, румяный, в старой трехугольной шляпе, и ударил челом повелителю. Это был его библиотекарь, бес чрезвычайно ученый, прежде бывший немецкий Gelehrter[39], который знал наизусть полные заглавия всех сочинений, мог высказать наперечет все издания, помнил, сколько в какой книге страниц, и презирал то, что на страницах, как пустую словесность – исключая опечатки, кои почитал он, одни лишь изо всех произведений ума человеческого, достойными особенного внимания.
– Негодяй! Какие прислал ты мне сухари? – сказал гневный Сатана. – Они черствы, как дрова.
– Ваша мрачность! – отвечал испуганный бес. – Других не мог достать. Правда, что сочинения несколько старые, но зато какие издания – самые новые: только что из печати!
– Сколько раз говорил я тебе, что не люблю вещей разогретых?.. Притом же я приказал подавать себе только легкое и приятное, а ты подсунул мне что-то такое жесткое, сухое, безвкусное…
– Мрачнейший повелитель! Смею уверить вас, что это лучшие творения нашего времени.
– Это лучшие творения нашего времени?.. Так ваше время ужасно глупо!
– Не моя вина, ваша мрачность: я библиотекарь, глупостей не произвожу, а только привожу их в порядок и систематически располагаю. Вы изволите говорить, что сухари не довольно легки, – легче этих и желать невозможно: в целой этой бочке, в которой найдете вы всю прошлогоднюю словесность, нет ни одной твердой мысли. Если же они не так свежи, то виноват ваш пьяный Харон[40], который не далее вчерашнего дня сорок корзин произведений последних четырех месяцев во время перевозки уронил в Лету…
Между тем как библиотекарь всячески оправдывался, Сатана из любопытства откинул обертку оставшегося у него в руках куска книги и увидел следующий остаток заглавия: «…… ец… оман…… торич……, сочин… н…… 830»[41].
– Что это такое? – сказал он, пяля на него грозные глаза. – Это даже не разогретое?.. Э?.. Смотри: 1830 года?..
– Видно, оно не стоило того, чтобы разогревать, – примолвил толстый бес с глупою улыбкой.
– Да это с маком! – воскликнул Сатана, рассмотрев внимательнее тот же кусок книги.
– Ваша мрачность! Скорее уснете после такого завтрака, – отвечал бес, опять улыбаясь.
– Ты меня обманываешь, да ты же еще и смеешься!.. – заревел Сатана в адском гневе. – Поди ко мне ближе.
Толстый бес подошел к нему со страхом. Сатана поймал его за ухо, поднял на воздух как перышко, положил в лежащий подле него шестиаршинный фолиант сочинений Аристотеля на греческом языке, доставшийся ему в наследство из библиотеки покойного Плутона, затворил книгу и сам на ней уселся. Под тяжестью гигантских членов подземного властелина несчастный смотритель адова книгохранилища в одно мгновение сплюснулся между жесткими страницами классической прозы, наподобие сухого листа мяты. Сатана определил ему в наказание служить закладкою для этой книги в продолжение 1111 лет: Сатана надеется в это время добиться смысла в сочинениях Аристотеля, которые читает он почти беспрерывно. Пустое!..
– Приищи мне из проклятых на место этого педанта кого-либо поумнее, – сказал он, обращаясь к верховному визирю и любимцу своему, Вельзевулу. – Я намерен сделать со временем моим книгохранителем того великого библиотекаря и профессора, который недавно произвел на севере такую ужасную суматоху. Когда он к нам пожалует, ты немедленно введи его в должность: только не забудь приковать его крепкою цепью к полу библиотеки, не то он готов и у меня, в аду, выкинуть революцию и учредить конституционные бюджеты.
– Слушаю! – отвечал визирь, кланяясь в пояс и с благоговением целуя конец хвоста Сатаны.
Царь чертей стал копаться в бочке, ища лучших сухарей. Он взял «Гернани», «Исповедь», «Петра Выжигина», «Рославлева», «Шемякин суд»[42] и кучу других отличных сочинений; сложил их ровно, помочил в урне, вбил себе в рот, проглотил и запил дегтем. И надобно знать, что как скоро Сатана съест какую-нибудь книгу, слава ее на земле вдруг исчезает и люди забывают об ее существовании. Вот почему столько плодов авторского гения, сначала приобревших громкую известность, впоследствии внезапно попадают в совершенное забвение: Сатана выкушал их с своим кофе!.. О том нет ни слова ни в одной истории словесности, однако ж это вещь официальная.
Повелитель ада съел таким образом в один завтрак словесность нашу за целый год: у него тогда был чертовский аппетит. Кушая свой кофе, он бросал беспокойный взор на залу и присутствующих. Что-то такое беспокоило его зрение: он чувствовал в глазах неприятную резь. Вдруг, посмотрев вверх, он увидел в потолке расщелину, чрез которую пробивались последнее лучи заходящего на земле солнца. Он тотчас угадал причину боли глаз своих и вскричал:
– Где архитектор?.. Где архитектор?.. Позовите ко мне этого вора.
Длинный, бледный, сухощавый проклятый пробился сквозь толпу и предстал пред его нечистою силой. Он назывался Дон Диего да Буфало. При жизни своей строил он соборную церковь в Саламанке, из которой украл ровно три стены, уверив казенную юнту[43], имевшую надзор над этою постройкою, что заготовленный кирпич растаял от беспрерывных дождей и испарился от солнца. За сей славный зодческий подвиг он был назначен по смерти придворным архитектором Сатаны. В аду места даются только истинно достойным.
– Мошенник! – воскликнул Сатана гневно (он всегда так восклицает, рассуждая с своими чиновниками). – Всякий день подаешь мне длинные счеты издержкам, будто употребленным на починку моих чертогов, а между тем куда ни взгляну – повсюду пропасть дыр и расщелин?..
– Старые здания, ваша мрачность! – отвечал проклятый, кланяясь и бесстыдно улыбаясь. – Старые здания… ежедневно более и более приходят в ветхость. Эта расщелина произошла от последнего землетрясения. Я уже несколько раз имел честь представлять вашей нечистой силе, чтоб было позволено мне сломать весь этот ад и выстроить вам новый, в нынешнем вкусе.
– Не хочу!.. – закричал Сатана. – Не хочу!.. Ты имеешь в предмете обокрасть меня при этом случае, потом выстроить себе где-нибудь адишко из моего материала, под именем твоей племянницы, и жить маленьким сатаною. Не хочу!.. По-моему, этот ад еще весьма хорош: очень жарок и темен, как нельзя лучше. Сделай мне только план и смету для починки потолка.
– План и смета уже сделаны. Вот они. Извольте видеть: надобно будет поставить две тысячи колонн в готическом вкусе: теперь готические колонны в большой моде; сделать греческий фронтон в виде трехугольной шляпы: без этого нельзя же. переменить архитраву[44]; большую дверь заделать в этой стене, а пробить другую в противоположной; переложить пол; стены украсить кариатидами; сломать старый дворец для открытия проспекта со стороны Тартара; построить два новые флигеля и лопнувшее в потолке место замазать алебастром – тогда солнце отнюдь не будет беспокоить вашей мрачности.
– Как?.. Что?.. – воскликнул Сатана в изумлении. – Все эти постройки и перестройки по поводу одной дыры?
– Да, ваша мрачность! Точно, по поводу одной дыры. Архитектура предписывает нам, заделывая одну дыру, немедленно пробивать другую для симметрии…
– Послушай, плут! Перестань обманывать меня! Ведь я тебе не член испанской Строительной юнты.
Проклятый поклонился в землю, плутовски улыбаясь.
– Велю замять тебя с глиною и переделать на кирпич для починки печей в геенне…
Он опять улыбнулся и поклонился.
– Да и любопытно мне знать, сколько все это стоило б по твоим предположениям?
– Безделицу, ваша мрачность. При должной бережливости, производя эти починки хозяйственным образом, с соблюдением казенного интереса, они обойдутся в 9 987 408 558 777 900 009 675 999 червонцев, 99 штиверов и 491/2 пенса. Дешевле никто вам не починит этого потолка.
Сатана сморщился, призадумался, почесал голову и сказал: «Нет денег!.. Теперь время трудное, холерное…»[45]
Он протянул руку к бочке: все посмотрели на него с любопытством. Он вытащил из нее две толстые книги: «Умозрительную физику В***»[46] и «Курс умозрительной философии Шеллинга»; раскрыл их, рассмотрел, опять закрыл и вдруг швырнул ими в лоб архитектору, сказав: «На!.. Возьми эти две книги и заклей ими расщелину в потолке: чрез эти умозрения никакой свет не пробьется».
Метко брошенные книги пролетели сквозь пустую голову тени бывшего архитектора точно так же, как пролетает полный курс университетского учения сквозь порожние головы иных баричей, не оставив после себя ни малейшего следа, – и упали позади на пол. Архитектор улыбнулся, поклонился, поднял глубокомудрые сочинения и пошел заклеивать ими потолок.
Немецкий студент, приговоренный в Майнце к аду за участие в Союзе добродетели, шепнул ***ову, известному любителю Канта, Окена, Шеллинга, магнетизма и пеннику[47]:
– Этот скряга Сатана точно так судит о философии и умозрительности, как ***ой о древней российской истории[48].
– Неудивительно!.. – отвечал ***ов с презрением. – Он враг всякому движению умственному…
– Что?.. – вскричал сердито Сатана, который везде имеет своих лазутчиков и все слышит и видит. – Что такое вы сказали?.. Еще смеете рассуждать!.. Подите ко мне, шуты! Научу я вас делать свои замечания в моем аду!
Черти, смотрящие за порядком в зале, привели к нему дерзких питомцев любомудрия. Сатана схватил одного из них за волосы, поднял на воздух, подул ему в нос и сказал: «Поди, шалун, в геенну – чихать два раза всякую секунду в продолжение 3333 лет, а ты, отчаянный философ, – промолвил он, обращаясь к ***ову, – сиди подле него и приговаривай: „Желаю вам здравствовать!“ Подите прочь, дураки!»
Засим обратился он к визирю своему, Вельзевулу, и спросил о дневной очереди. Визирь отвечал, что в тот вечер должны были докладывать ему обер-председатель мятежей и революций, первый лорд-дьявол журналистики, великий черт словесности и главноуправляющий супружескими делами.
Предстал черт старый, гадкий, оборванный, изувеченный, грязный, отвратительный, со всклокоченными волосами, с одним выдолбленным глазом, с одним сломанным рогом, с когтями, как у гиены, с зубами без губ, как у трупа, и с большим пластырем, прилепленным сзади, пониже хвоста. Под мышкою торчала у него кипа бумаг, обрызганных грязью и кровью; на голове – старая кучерская лакированная шляпа, трехцветная кокарда; за поясом – кинжал и пара пистолетов; в руках – дубина и ржавое ружье без замка. Карманы его набиты были камнями из мостовой и кусками бутылочного стекла.