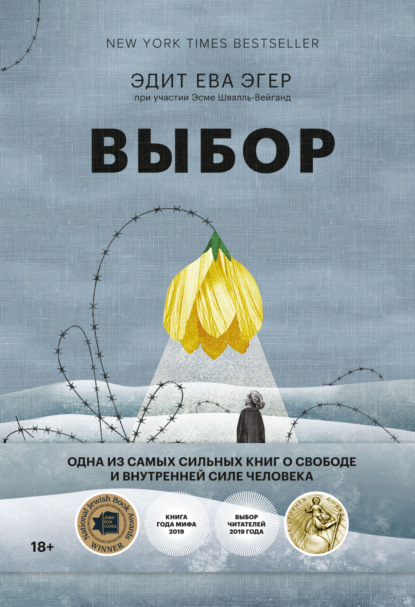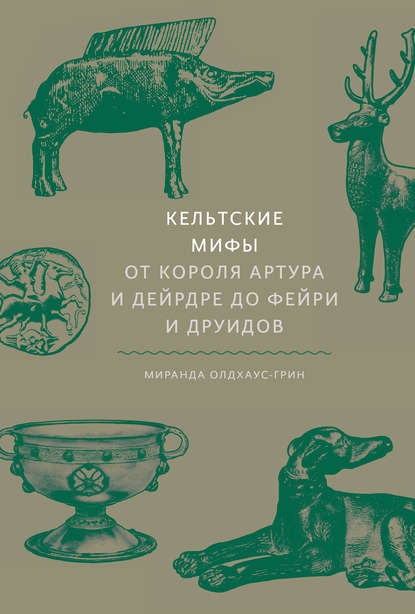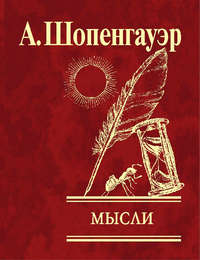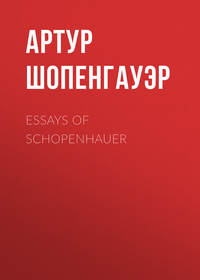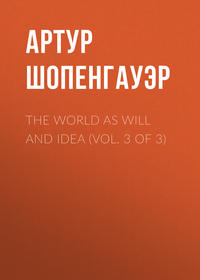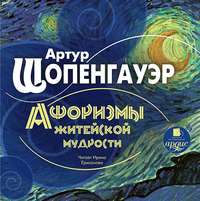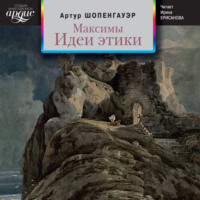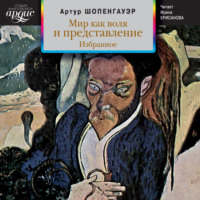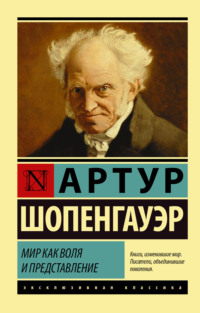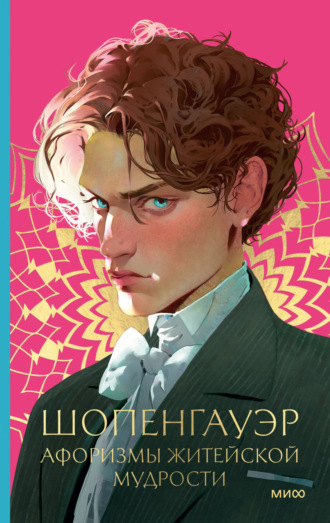
Полная версия
Афоризмы житейской мудрости

Артур Шопенгауэр
Афоризмы житейской мудрости
Предисловие канд. филос. наук Натальи Чепелевой.
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
© Предисловие. Н. Чепелева, 2024
© Оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2025
* * *

Что такое счастье?

Кого можно назвать счастливым человеком? И как понять, счастлив ли я сам в данный момент? Ответ Артура Шопенгауэра на эти вечные вопросы отличается от большинства банальных представлений своей откровенностью, прямотой и даже некоторой циничностью. По его мнению, счастье, в отличие от страдания, имеет отрицательный характер – это значит, что мы не осознаем своего счастья и замечаем его только тогда, когда наступают несчастливые дни. Поэтому счастье всегда находится в будущем или в прошлом, а настоящее никогда нас не удовлетворяет.
Наша жизнь, учил Шопенгауэр, по существу, есть страдание. Удовлетворение желаний приводит к пресыщению и скуке, а, избавившись от скуки, мы снова испытываем неудовлетворенность – вся наша жизнь проходит в поиске баланса между желанием и удовлетворением. Важно понять, что страдание неизбежно для жизни и навсегда избавиться от него невозможно. Однако это не означает, что все мы должны отчаяться и покориться своей участи, ведь можно овладеть искусством провести свою жизнь как можно более счастливо даже тогда, когда счастье само по себе недостижимо. Руководство к этому искусству Шопенгауэр предлагает в трактате «Афоризмы житейской мудрости», который считается вершиной этики Шопенгауэра, а также отличным введением в его философию.
В своем главном труде «Мир как воля и представление» Шопенгауэр отметил, что всякое исследование в конечном счете редуцируется к способу ориентации человека в мире. Добродетели, как и гениальности, нельзя научить, и было бы нелепо ожидать, что моральные системы философов могут создавать доблестных, благородных и тем более святых людей. Однако философия может уловить, истолковать и объяснить сокровенную сущность мира, которая проявляется в числе прочего в человеческих поступках. И поэтому этика – самая серьезная часть любой философской системы, ведь в ней речь идет о том, что непосредственно близко всякому человеку и никому не может быть чуждо и безразлично.
В «Афоризмах житейской мудрости» Шопенгауэр предлагает «философию для мира» – выжимку из собственного этического учения, ориентированную на людей, стремящихся к самопознанию и саморазвитию.
Философия для мира«Афоризмы житейской мудрости» принесли Шопенгауэру мировую славу и стали самым удачным произведением, опубликованным при его жизни. В этом тексте Шопенгауэр не говорит о метафизических проблемах мироздания и намеренно встает на эмпирическую точку зрения, рассуждая над тем, как каждый отдельный человек может достичь максимально возможного счастья, выбирая наименьшее из всех многочисленных зол, окружающих его в повседневной жизни. Интересно, что популярность самому известному философскому пессимисту принес его самый оптимистичный текст.
«Афоризмы житейской мудрости» быстро стали настольной книгой у читающей творческой публики. Светские интеллектуалы восхищались чувством стиля Шопенгауэра, афористичностью и остроумием его формулировок, а также дерзостью, эрудицией и здравым чувством реальности, которые были выражены в тексте.
Место «Афоризмов житейской мудрости» в философском наследии Шопенгауэра определить не так просто, как это кажется на первый взгляд. Проблема, с которой сталкиваются исследователи, связана с тем, что многие тезисы «Афоризмов» противоречат ключевым идеям классической метафизики Шопенгауэра из других работ. Например, учение о том, что счастье носит отрицательный характер, достаточно трудно согласовать с практическими советами по достижению счастья из «Афоризмов». Более того, строго говоря, эти советы должны способствовать поддержанию воли к жизни, а не ее отрицанию. Вместе с тем именно отрицанию воли к жизни Шопенгауэр учит в четвертой книге «Мир как воля и представление». Этический идеал Шопенгауэра – аскет, культивирующий в себе отвращение к жизни и земным благам.
Оптимистичные «Афоризмы житейской мудрости» трудно вписать в систему Шопенгауэра, и этой проблеме посвящены многие научные статьи. Консенсус, который устоялся на сегодняшний день, объясняет эту ситуацию следующим образом: в «Афоризмах» Шопенгауэр предлагает популярную версию своей философии – «философия для мира» – которая будет понятна любому читателю. На протяжении всего текста «Афоризмов» Шопенгауэр делает отсылки к различным своим произведениям, приглашая читателя углубить свое понимание шопенгауэровской философии и познакомиться с его метафизической системой. Любопытно, что сам Шопенгауэр был далек от аскетического идеала, описываемого им в других работах, и скорее жил в соответствии с учением «Афоризмов», а не «Мира как воли и представления». Поэтому «Афоризмы», помимо всего прочего, позволяют нам ближе познакомиться с личностью Артура Шопенгауэра.
«Афоризмы житейской мудрости» были опубликованы Шопенгауэром в 1851 году в первом томе сборника «Парерга и Паралипомена». Однако соответствующие заметки, посвященные эвдемонологии, или искусству быть счастливым, Шопенгауэр начал делать уже в 1821 году в небольшой записной книжке, которую озаглавил в честь одноименного произведения Марка Аврелия «К самому себе». Хотя, если верить распорядителю его завещания, Шопенгауэр просил уничтожить этот текст из-за слишком личного характера рассуждений, многие из этих заметок позднее нашли выражение в «Афоризмах».
Набросок первой главы «Афоризмов» появился уже в 1828 году под заголовком «Эвдемоника», а затем эта тема получила развитие в рукописной заметке «Адверсария». Можно сказать, что Шопенгауэр выразил в тексте «Афоризмов» собственную житейскую мудрость, основанную как на личном опыте, так и на материале произведений античных и европейских классиков. Шопенгауэр ориентируется на Аристотеля и Эпикура, Сенеку и Петрарку, Кастильоне и Грасиана, Вольтера и Гёте.
Три критерия счастьяТекст «Афоризмов житейской мудрости» условно состоит из двух частей и приложения. В первой части (главы I–IV) Шопенгауэр обсуждает три блага человеческой жизни, которые исследователи иногда называют «критериями счастья»: что есть индивид, что имеет индивид и чем индивид представляется.
Первый критерий, безусловно, является самым важным, к нему относятся как внешние преимущества (здоровье, красота), так и внутренние достоинства (интеллект, духовность). Шопенгауэр не говорит здесь подробно о нравственности, хотя упоминает, что она тоже приводит к счастью, и отсылает читателя к своей работе «Об основе морали». В этом сочинении Шопенгауэр вводит критерий морально ценных поступков – это отсутствие всякой эгоистической мотивации. В человеке есть три основных этических импульса: эгоизм, злоба и сострадание, они есть у каждого (причем в невероятно различном соотношении), которое зависит от врожденного индивидуального характера человека. В сочинении «Об основе морали» сострадание определяется как свободное участие в страдании другого, благодаря которому страдание прекращается, – в этом и состоит всякое благополучие и счастье.
Второе благо человеческой жизни, описываемое Шопенгауэром в «Афоризмах», – собственность. Здесь Шопенгауэр предлагает свои рассуждения о финансовом благосостоянии, отдельно отмечая недооцененное преимущество – с самого начала обладать средствами на независимую жизнь, свободную от нужды. В этой связи необходимо упомянуть о факте из биографии самого Шопенгауэра. Его отец был крупным немецким коммерсантом и оставил Артуру крупное наследство, что позволило ему вести весьма расточительный образ жизни во время учебы в Готе. Хотя светские вечеринки не мешали его успехам в учебе, они беспокоили его мать Иоганну, которая не одобряла его стремления вращаться в дворянском обществе и в письмах регулярно напоминала сыну о его бюргерском происхождении. Конечно, это станет одним из многочисленных поводов к их последующей размолвке. В 21 год Шопенгауэр получил от матери свою часть наследства, что открыло перед ним возможность жить не за счет философии, а ради нее. Поэтому, когда Шопенгауэр в «Афоризмах» отмечает важную роль благосостояния, он на личном опыте знает, о чем говорит.
Третий «критерий счастья» – то, чем индивид представляется. Это честь, ранг и слава. Шопенгауэр обращает внимание на важность нашего образа в глазах других людей. Сам он тоже стремился к известности, однако долгое время его персона находилась в тени более крупных немецких философов. Главный конкурент Шопенгауэра – Гегель. Известна история о том, как Шопенгауэр намеренно ставил свои лекции в Берлинском университете на одно время с лекциями Гегеля, однако если к Гегелю приходило более 200 человек, на лекции Шопенгауэра записывалось на более 5.
Все изменилось в 1850-х годах, когда благодаря публикации «Афоризмов житейской мудрости» к Шопенгауэру пришла долгожданная слава. Говоря о чести, Шопенгауэр отдельно выделяет гражданскую, служебную, половую честь. Еще один вид чести, отличный от всех предыдущих – рыцарская честь, которую Шопенгауэр называет порождением высокомерия и глупости христианской Европы. Покончить с принципом рыцарской чести, которая в решении важных вопросов вместо интеллекта ставит физическую силу и случай, – задача философов, исправляющих понятия.
Аристократический индивидуализмВторую часть текста (глава V) Шопенгауэр озаглавил «Паренезы и максимы», вероятно, по аналогии с работой Гёте «Максимы и размышления». Высшим правилом всякой житейской мудрости Шопенгауэр признает высказывание Аристотеля из «Никомаховой этики»: «Рассудительный ищет свободы от страдания, а не того, что доставляет удовольствие». В соответствии с ним Шопенгауэр формулировал 53 совета, следуя которым человек сможет, насколько это реально, приблизить свое счастье.
Иногда исследователи выделяют в качестве ключевой идеи, которую Шопенгауэр выражает в этой части, аристократический индивидуализм, согласно которому в решении вопросов следует ориентироваться на собственное мнение, а чужие советы объявляются мнением завистливой толпы. Шопенгауэр выделяет три вида аристократии: аристократия рождения и ранга, денежная аристократия и наиболее почетная умственная аристократия. Впрочем, «Паренезы и максимы» гораздо богаче, нежели просто рассуждения об аристократии. Здесь Шопенгауэр говорит об одиночестве и подлинной дружбе, о благоразумии и мужестве, дает советы по укреплению здоровья и объясняет, как следует себя вести, если вы столкнулись с завистью и ложью.
Отдельное внимание уделяется Шопенгауэром теме личности в обществе: он сравнивает общество с огнем, у которого умный человек будет греться на отдалении, а глупец, однажды обжегшись, скрывается затем в холоде одиночества. Кант называл стремление человечества друг к другу и одновременную склонность к уединению «необщительной общительностью».
Во втором томе сборника «Парерга и Паралипомена» Шопенгауэр вновь поднимет эту тему, когда будет излагать свою знаменитую притчу о дикобразах. Однажды холодным зимним днем стадо дикобразов легло тесно друг к другу, чтобы согреться, однако острые иглы заставили их лечь подальше друг от друга. Затем из-за холода они снова придвинулись и опять начали страдать от игл собратьев. Так продолжалось до тех пор, пока дикобразы не заняли идеальное положение, достаточно близкое друг к другу, чтобы согреться, но достаточно далекое, чтобы не чувствовать уколы от игл. Этой притчей Шопенгауэр призывает нас брать свое одиночество в общество, чтобы достичь наилучшего состояния.
Старость vs молодость«Афоризмы житейской мудрости» завершаются приложением (глава VI) «О различии между возрастами», которое считается одним из стилистических шедевров Шопенгауэра. Он тонко чувствует, как по-разному ощущают себя ребенок, взрослый человек и старик, описывая разницу мироощущений с помощью богатых метафор и аллегорий.
Шопенгауэр учит не бояться старения и, ссылаясь на Платона, называет старческий возраст счастливым. Впрочем, поскольку спокойствие старости уравновешивает беспокойство молодости, Шопенгауэр называет их взаимно благополучными, остроумно подмечая: «Когда человек стар, для него остается только смерть, а когда он молод, перед ним жизнь, и еще вопрос, что из двух страшнее».
Завороженность текстами Шопенгауэра, которую вот уже 200 лет испытывают его читатели во всем мире, во многом связана с тем, что Шопенгауэр обращается к своим читателям напрямую, и каждый может почувствовать себя вовлеченным в диалог с великим мыслителем. Глубина его философского взгляда, выраженная блестящим литературным стилем, по праву возносит Шопенгауэра в число величайших мыслителей человечества.
Канд. филос. наук Н. Чепелева, преподаватель кафедры истории зарубежной философии, участница международного коллоквиума Исследовательского центра Шопенгауэра в Майнце, Член Совета молодых ученых философского факультета МГУСчастье вещь нелегкая.
Его очень трудно найти внутри себя и невозможно найти где-нибудь в другом месте.
Шамфор
Введение

Понятие житейской мудрости имеет здесь вполне имманентное значение, – именно в смысле искусства провести свою жизнь возможно приятнее и счастливее, искусства, руководство к которому можно было бы назвать также эвдемонологией: это будет, следовательно, наставление в счастливом существовании. А это последнее опять-таки вполне можно было бы определить как такое существование, которое при чисто объективном рассмотрении или, вернее (так как здесь дело идет о субъективном суждении), при холодном и зрелом размышлении заслуживало бы решительного предпочтения перед небытием. Такое понятие о счастливой жизни показывает, что мы держимся за нее ради нее самой, а не просто из страха перед смертью; отсюда же следует, далее, что мы желали бы, чтобы она длилась вечно. Возникает вопрос, соответствует ли человеческая жизнь понятию о таком существовании, да и вообще может ли она ему соответствовать; моя философия, как известно, отвечает на этот вопрос отрицательно, тогда как эвдемонология предполагает положительный ответ на него. Ведь она исходит как раз из того врожденного заблуждения, разбор которого начинается 49-й главой во втором томе моего главного произведения. Поэтому, если я все-таки принимаюсь за такого рода сочинение, мне надлежит совершенно покинуть ту высшую, метафизико-этическую точку зрения, к которой, собственно, должна вести вся моя философия. Все, следовательно, приводимые здесь рассуждения основаны до известной степени на компромиссе, именно поскольку в них удержана обычная эмпирическая точка зрения и сохранено ее коренное заблуждение. Таким образом, и ценность этого трактата может быть лишь условной, так как само слово «эвдемонология» представляет собою не более как эвфемизм. Он нисколько не притязает также и на полноту: с одной стороны, сама тема неисчерпаема, а с другой – в противном случае мне пришлось бы повторять уже сказанное другими.
Я могу припомнить только одно сочинение, написанное с подобной же целью, как предлагаемые афоризмы, а именно весьма поучительную книгу Кардано «De utilitate ex adversis capienda»[1], которой и можно пополнить то, что дано мною. Правда, и Аристотель вставил краткую эвдемонологию в 5-ю главу первой книги своей «Риторики»; она вышла у него, однако, очень пресной. Я не воспользовался трудами своих предшественников, так как компилирование – не моя специальность, тем более что при нем утрачивается единство точки зрения, это главное условие для подобного рода произведений. В общем, конечно, мудрецы всех времен постоянно говорили одно и то же, а глупцы, всегда составлявшие огромнейшее большинство, постоянно одно и то же делали – как раз противоположное; так будет продолжаться и впредь. Вот почему Вольтер говорит: «Nous laisserons се monde-ci aussi sot et aussi méchant que nous l’avons trouvé en у arrivant»[2].
Глава I. Основные отделы

Аристотель (Никомахова этика, I, 8) разделяет блага человеческой жизни на три класса – блага внешние, блага душевные и блага телесные. Я, со своей стороны, сохраню от этой классификации только ее трехчленность: то, от чего зависит разница в жребии смертных, может быть, на мой взгляд, сведено к трем основным пунктам. Вот они:
Что есть индивид – то есть личность в самом широком смысле слова. Сюда относятся, следовательно, здоровье, сила, красота, темперамент, нравственный характер, ум и его развитие.
Что имеет индивид – то есть всякого рода собственность и владение.
Чем индивид представляется. Под этим выражением, как известно, понимают, каков он в представлении других, то есть, собственно, как они себе его представляют. Таким образом, здесь мы имеем дело с их мнением о нем, которое проявляется в троякой форме – как честь, ранг и слава.
Рассмотрению под первой рубрикой подлежат те различия, которые провела между людьми сама природа. Уже отсюда можно понять, что их влияние на людское счастье и несчастье должно быть гораздо более существенным и решительным, чем то, какое может принадлежать указанным в двух остальных рубриках разграничениям, которые обусловлены просто человеческими определениями. Перед подлинными личными преимуществами, великим умом или великим сердцем все преимущества ранга, рождения, хотя бы даже королевского, богатства и т. п. – то же самое, что театральные цари перед настоящими. Уже Метродор, первый ученик Эпикура, назвал одну из своих глав: «Περί τοΰ μείζονα είναι τήν παρ΄ ήμας αίτίαν πρός ευδαιμονίαν τής έκ τω̃ν πραγμάτων» (ср.: Климент Александрийский. Строматы 2, 21, с. 362). И вообще, очевидно, благосостояние человека, да и весь характер его существования, главным образом зависит от того, что в нем самом имеет постоянное или преходящее значение. Ведь в этом заключается непосредственно его внутреннее довольство и недовольство, которые прежде всего являются результатом его чувствования, воления и мышления; все же внешнее влияет на его самочувствие лишь косвенным путем. Вот почему одни и те же внешние происшествия и отношения отзываются на каждом человеке совершенно различно и при одной и той же обстановке каждый все-таки живет в своем особом мире. Ибо всякий человек непосредственно сознает только свои собственные представления, чувства и волевые движения: внешние вещи влияют на него лишь постольку, поскольку они дают повод для этих психических состояний. Мир, в котором живет каждый из нас, прежде всего зависит от того, как мы его себе представляем, – он принимает различный вид, смотря по индивидуальным особенностям психики: для одних он оказывается бедным, пустым и пошлым, для других – богатым, полным интереса и смысла. Когда, например, кто-нибудь завидует интересным приключениям, встретившимся в жизни другого лица, надлежало бы скорее завидовать тому дару понимания, в силу которого приключения эти получают значительность, какую они имеют в описании испытавшего их: ведь одно и то же происшествие, представляющееся столь интересным для высокоодаренного интеллекта, в представлении плоской дюжинной головы принимает вид самого пустого случая из повседневной жизни. Чрезвычайно заметно это на некоторых произведениях Гёте и Байрона, повод к которым дан, очевидно, действительными происшествиями: неумный читатель будет, пожалуй, завидовать изображенному поэтом прелестнейшему этюду, вместо того чтобы направить свою зависть на мощную фантазию, которая из довольно обыденного случая способна сделать нечто великое и прекрасное. Равным образом меланхолик видит трагедию там, где сангвиник усматривает лишь интересный конфликт, а флегматик – нечто малозначительное. Все это имеет свой корень в том, что всякая действительность, то есть всякое заполненное настоящее, состоит из двух половин, субъекта и объекта, хотя они и находятся между собой в столь же необходимой и тесной связи, как кислород и водород в воде. Поэтому при вполне одинаковых объективных данных, но различных субъективных, а также в обратном случае наличная действительность принимает совершенно иной вид: прекраснейшая и наилучшая объективная сторона при тупой, плохой субъективной все-таки даст лишь плохое действительное и настоящее, точь-в-точь как прекрасная местность в плохую погоду или в отражении плохой камеры-обскуры.
Говоря проще, всякий замкнут в своем сознании, как и в своей коже, и только в нем живет непосредственно; вот почему ему нельзя оказать большой помощи извне. На сцене один играет князя, другой – советника, третий – слугу, солдата, генерала и т. д. Но различия эти имеют чисто внешний характер; во внутренней же сущности такого явления у всех скрывается одна и та же сердцевина: бедный актер с его заботой и нуждой. То же самое в жизни. Различия ранга и богатства каждому отводят свою роль, но ей вовсе не соответствует внутренняя разница в счастье и довольстве: и здесь в каждом скрывается тот же бедняк с его нуждой и заботой.
Правда, по своему содержанию эти последние у каждого свои, но по форме, то есть по своей истинной сущности, они у всех почти одинаковы, хотя они и различаются в степени, но различие это вовсе не определяется положением и богатством человека, то есть его ролью. Именно: так как все, что для человека существует и случается, непосредственно существует все-таки лишь в его сознании и случается для этого последнего, то наиболее существенное значение имеет природа самого сознания, и в большинстве случаев она играет большую роль, чем те образы, которые в нем возникают. Все роскошь и наслаждения, отражающиеся в тупом сознании глупца, очень бедны в сравнении с сознанием Сервантеса, когда он писал «Дон Кихота» в своей печальной тюрьме. Объективная часть наличной действительности находится в руках судьбы и потому изменчива; субъективная же – это мы сами, и потому в своих существенных чертах она неизменна. Соответственно тому жизнь каждого человека, несмотря на все внешние перемены, носит сплошь один и тот же характер и может быть уподоблена ряду вариаций на одну тему. Никто не может выйти из своей индивидуальности. И подобно тому как животное, при всех условиях, в какие его ставят, всегда ограничено тем узким кругом, который неуклонно предначертала его существу природа, так что, например, наши стремления сделать счастливым любимое животное постоянно должны держаться тесных пределов именно в силу этой ограниченности его существа и сознания, – так и с человеком: его индивидуальностью заранее определена мера возможного для него счастья. В особенности границы его духовных сил раз навсегда устанавливают его способность к возвышенным наслаждениям. Если они узки, то напрасны будут все усилия извне, бесполезно будет все, что могут сделать для него люди и счастье: он не в состоянии будет переступить меру обычного, полуживотного человеческого счастья и довольства; уделом его останутся чувственные наслаждения, благодушная и безмятежная семейная жизнь, низкое общество и вульгарное времяпрепровождение. Даже образование не может сделать очень многого для расширения его кругозора, хотя некоторых результатов оно и достигает. Ибо высшие, разнообразнейшие и наиболее прочные наслаждения – это духовные, как бы мы ни обманывались на этот счет в молодости; а эти удовольствия зависят главным образом от духовных сил. Отсюда ясно вытекает, насколько наше счастье обусловлено тем, что мы есть, нашей индивидуальностью; между тем по большей части люди обращают внимание лишь на судьбу, на то, что мы имеем или чем представляемся. Но судьба может меняться к лучшему; к тому же при внутреннем богатстве человек не требует от нее многого. Напротив, глупец остается глупцом, тупой чурбан – тупым чурбаном остается до конца дней своих, хотя бы он очутился в раю и был окружен гуриями. Поэтому Гёте и говорил:
Раб, народ и угнетательВечны в беге наших дней, –Счастлив мира обитательТолько личностью своей.Что для нашего счастья и нашего наслаждения субъективное несравненно важнее объективного, это находит себе подтверждение во всем, начиная от таких фактов, что голод есть лучший повар и что старик равнодушно взирает на богиню юноши, и кончая жизнью гения и святого. В особенности здоровье стоит настолько выше всех внешних благ, что поистине здоровый нищий счастливее больного царя. Обусловленный полным здоровьем и счастливой организацией спокойный и веселый нрав, ясный, живой, проницательный и верно схватывающий ум, умеренная, кроткая воля, дающая чистую совесть, – вот преимущества, которых не может заменить никакой ранг, никакое богатство. Ибо то, что есть индивид сам по себе, что остается наедине с ним и чего никто не может ему дать или у него отнять, имеет, очевидно, для него более существенное значение, нежели все, чем бы он ни обладал и чем бы он ни был в глазах других. Человек с богатым внутренним миром, находясь в совершенном одиночестве, получает превосходное развлечение в своих собственных мыслях и фантазиях, тогда как тупицу не оградит от смертельной скуки даже постоянная смена компании, зрелищ, прогулок и увеселений. Добрый, умеренный, миролюбивый человек может быть доволен и в бедности, тогда как алчного, завистливого и злого не удовлетворит никакое богатство. И для того, кто постоянно наслаждается своей необычной, выдающейся в духовном отношении индивидуальностью, большинство наслаждений, к каким все стремятся, совершенно излишни, даже прямо нежелательны и тягостны. Вот почему Гораций и говорит о себе: