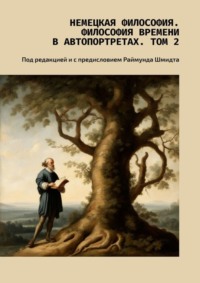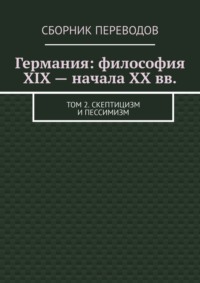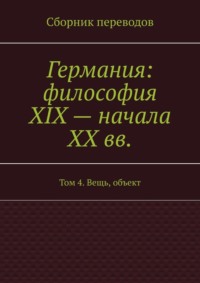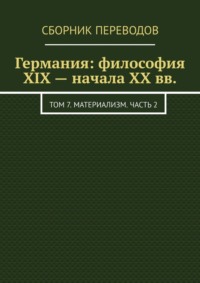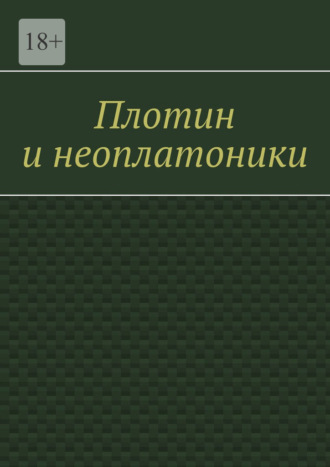
Полная версия
Плотин и неоплатоники
Но не только Мистерии, казалось, предлагали возможность преодолеть политеизм и натурализм народной религии в пользу духовного монотеизма. Он уже существовал в иудейской религии и вел оживленную пропаганду повсюду в прибрежных городах Средиземноморья, где его последователи, будучи купцами, участвовали в торговле с греками. Иудейский национальный бог Яхве отбросил свою партикулярную ограниченность и природную обусловленность и, особенно после возвращения евреев из изгнания, все более возвышался до супраментального существа, отрешенного от всех национальных и политических барьеров. Да и сама национальная исключительность иудейской религии в значительной степени утратила свою строгость, поскольку евреи покинули страну, поселились среди чужих народов и переняли плоды их высочайшей культуры. Под влиянием греческого духа старые жесткие формы еврейского взгляда на мир и жизнь смягчились.
Произошло объединение еврейских и греческих и греческих идей, что привело к полной внутренней реорганизации иудаизма и максимальному приспособлению его к религиозным потребностям нееврейского мира. В ходе этого процесса иудейская религия углубилась, особенно в своей этической стороне, а в своем предположении о едином сверхъестественном и сверхчувственном Боге она обладала концепцией, которую греки, отчаявшись в многобожии, также рассматривали как высший религиозный идеал. Разумеется, мораль, которую она отстаивала, была полностью гетерономной, основанной на требовании слепого подчинения воле Бога, явленной в законе. Но это была еще одна причина, по которой люди того времени симпатизировали иудаизму; ведь поскольку они сами были лишены всякой внутренней поддержки и в своем отчаянии уже не знали, что делать, они были рады отдать свою беспомощность во власть безусловно обязательной воли.
Молодое христианство отличалось от иудейской религии не только трансцендентностью и духовностью своего представления о Боге, но скорее тем, как оно «опосредовало» единство человека и Бога и заменило жесткость иудейского закона верой в «благую весть» пророка из Назарета. Она включила в свой культ самые впечатляющие символы и события мистерий, отказавшись от всех излишеств религиозного аскетизма и экстаза. Но прежде всего она умела завоевать постоянно растущее число приверженцев благодаря пробуждаемой и культивируемой ею надежде на скорую мировую катастрофу и потустороннее блаженство, с которой она обращалась, в частности, к самому низкому, самому угнетенному и самому отчаявшемуся классу людей3
И уже были люди, взявшие на себя труд философски обосновать и расширить новые религиозные взгляды, а заодно и придать новую силу усталой и изжившей себя философии, включив в нее религиозные идеи. В иудаизме на рубеже нашей эры возник александриец Филон, ставший главным представителем иудейско-александрийской религиозной философии благодаря слиянию иудейской и греческой, в частности платонической и стоической, мысли. Суровый дуализм Бога и мира, столь же характерный для иудаизма, как и для Платона, сочетается у него с представлением о Боге в смысле позднего иудаизма как о существе, существующем само по себе, которому Филон отказывает во всех позитивных определениях в интересах его сверхъестественной возвышенности. Он рассматривает Бога как единственный подлинно активный и действенный принцип. Ему противостоит материя, пассивная, бесформенная и столь же недетерминированная масса, причина всех несовершенств мира, источник всякого зла и порока, а разум, Логос, бесплотный мир-душа стоиков, как единая совокупность всех божественных сил и идей, призван опосредовать переход и установить единство между двумя противоположностями. Возможность единения с Богом также основана на посредничестве Логоса. Человеческая душа – лишь часть мировой души, человеческий разум – лишь часть божественного разума и, следовательно, сам божественный. Поэтому и человек способен посредством своего разума освободиться от физической оболочки, в которую погрузился Логос при сотворении человека; это происходит через уход от чувственности, погружение в себя и непосредственное созерцание Бога в состоянии религиозного экстаза.
Похожие идеи, связь которых с орфико-пифагорейскими мистериями нельзя отрицать, отстаивали в то же время и в первые века после Рождества Христова те, кто явно ссылался на Пифагора, так называемые неопифагорейцы. Больше жрецы и религиозные странствующие проповедники, чем философы, озабоченные спасением душ людей и иногда славившиеся сверхъестественными знаниями и высокими чудесными способностями, как Аполлоний Тианский, они тоже провозглашали единственную реальность и супраментальную возвышенность Бога, божественную природу человеческой души, переселение душ и возможность приобщения к единству с Богом через чистоту жизни, нравственное самопознание, религиозное посвящение и аскетизм. Однако там, где эта школа обращалась в основном к теоретическому знанию, как у Модерата, Никомаха и других, она пыталась решить фундаментальную философскую проблему античной философии, а именно проблему единства духовного и природного, на пифагорейский манер, приравнивая метафизические принципы и божественные идеи к числам, и при этом впадала в такую авантюрную мистику чисел, что это лишь обнажало духовное банкротство античной философии.
Религиозное мировоззрение Плутарха напоминает персидский дуализм Ормузда и Аримана. Хотя, как платоник, он остается при противопоставлении супраментального божества и материального, он не считает материальное ни неопределенным, ни причиной зла, а находит последнее в третьем лице, которое действует против доброго Бога как принцип зла и препятствует соединению человека с Богом. Однако через воздержание, созерцание и религиозное посвящение Плутарх также верит, что такой союз все же возможен, хотя он делает почти большие уступки суеверию своего времени, вере в пророчества, чудеса и демонов, чем неопифагорейские жрецы и пророки.
Нумений из Апамеи в Сирии, живший во второй половине II века н. э., был не меньшим прогрессом в борьбе со все более распространенной верой в богов и демонов, которые должны были занять место идей среди последователей Платона, когда он энергично обобщил их количество в едином принципе, Нумений из Апамеи в Сирии во второй половине II века н. э. энергично обобщил их число в единый принцип, ввел этот принцип под именем Демиурга или мировой души в качестве «второго бога» между верховным божеством и материальной реальностью и приписал мировой душе активность, конечную эффективность и творческую силу, которые, по его мнению, должны были отрицаться у первого бога в его супраментальной возвышенности. Нумений явно приближался к точке зрения Филона, с которым он также разделял веру в падение души, ее искупление через переселение душ и мистико-аскетическое направление. Его намерением было продемонстрировать согласие между Пифагором и Платоном, а последнего, в свою очередь, с мудростью браминов, персидских магов, египтян и евреев. Таким образом, в его мышлении преобладали и религиозные аспекты, а там, где умозрительного знания было уже недостаточно, он считал, что сверхъестественная благодать Бога, откровение и чудо мистического экстаза должны стать посредниками в единении человека с Богом.
Благодаря этим последним положениям античная философия в определенном смысле возвращается к своей исходной точке. Ведь она возникла из мистицизма. Дионисийский энтузиазм, «корибантское безумие», как до сих пор называет Филон состояние поглощенности божеством, религиозный экстаз и энтузиазм стали атмосферной основой первых пробных попыток научного мировоззрения. Бациды и сибилы, призрачные знамена, обращение к больным, жрецы-искупители и чудотворные маги были предтечей греческой спекуляции. Чудотворный цветок греческой философии вырос из мистического погружения в себя.1 Теперь образ философа-теоретика вновь превратился в образ знаменосца духа, чудотворца и спасителя больной души: философ снова стал жрецом, а непосредственное единение с Богом вновь предстало как высшая степень мудрости. Были ли орфическо-пифагорейские мистерии и их устная передача древних верований самым существенным толчком для этого поворота в античной мысли, были ли мистические мыслительные процессы поздней греческой философии обусловлены непосредственным влиянием индийского духа, который пришел к очень похожим результатам в брахманизме и буддизме, – кто захочет утверждать это с уверенностью? Не исключено, что торговля с Индией через Александрию в Египте, классическую страну религиозного мистицизма, а также, возможно, контакт с буддийской миссией на Западе, привели в действие столь тесно связанные между собой направления мысли.
Мы знаем, что буддийская На рубеже нашей эры миссия достигла наивысшей степени своего экспансивного могущества и начала распространяться вдоль восточных берегов Средиземноморья. Как бы то ни было, факт остается фактом: философия с ее обращением к религии, сама того не сознавая, встала на единственный путь, способный содействовать решению платоновской проблемы и покончить со скептическим отчаянием относительно возможности познания. —
Общей основной чертой иудейско-александрийской философии религии, неопифагорейства и пифагорейцев-платоников в манере Плутарха и Нумения является то, что они низко ценили воздействие, отождествляли его с нечистым, дурным, даже злым и, возможно, даже отрицали его существование в смысле действительно существующего бытия вообще, а истинное бытие и центр тяжести реальности переносили в сверхчувственную и сверхъестественную сферу. Это резко контрастировало с великими школами постклассической философии, в частности со стоиками и эпикурейцами, которые, напротив, объявляли чувственно-материальную реальность единственной реальностью, материализовывали духовное и исповедовали решительно натуралистическое, даже материалистическое мировоззрение. И это мировоззрение также положило конец нападкам скептиков на знание. Ведь скептическая критика, как я уже говорил, была направлена исключительно против истинности чувственного восприятия и основанного на нем понимания; она предполагала единственную реальность материальной природы; она утверждала, что невозможно познать мир, состоящий из физических объектов.
Но что, если реальность вовсе не материальна, если чувственному познанию, таким образом, отказано в его исключительной обоснованности? Тогда философия, очевидно, перешла в ту область, где скептицизм в его прежней форме уже не мог ее коснуться. Материализм постклассической философии превратился в идеализм, и Платон, которого стоики и эпикурейцы считали уже побежденным, снова занял господствующее положение: истинное бытие есть духовное бытие; природное бытие есть лишь несовершенное отражение, помутнение, отпадение истинного от его действительной сущности. Только мысль, идея обладает подлинной «реальностью и принадлежит к сфере сущности; субстанция же есть простое отрицание истинного, нереальное в смысле чего-то не имеющего сущности.
Перед нами снова старое основное воззрение платонизма, но теперь оно приобретает такую форму, которая превращает его в нечто совершенно новое и возносит позднегреческую религиозную философию на вершину античной философии в целом. Платон, как уже говорилось, рассматривал сами идеи как нечто независимое и конечное, нечто существующее само по себе, и находил в них глубочайшую основу реальности. Хотя эта философия была согласна с Платоном в переносе центра тяжести бытия из природной в умопостигаемую сферу, она считала Идеи лишь мыслями, качествами и определениями божества и тем самым лишала их самостоятельного значения. Для Платона Бог также был лишь одной идеей среди других, высшей идеей, идеей блага, поскольку она включает в себя совокупность всех других идей, определяет ранжирование идей в зависимости от аспекта их телеологической детерминации и тем самым устанавливает степень их совершенства. Для неопифагорейцев, пифагорействующих платоников и александрийцев, напротив, благо также совпадает с Богом, но, согласно им, благое божество само по себе не есть идея, а стоит позади и над всеми идеями; они, однако, не являются высшим и действительным бытием, а несут в себе последнее, которое как таковое принадлежит только божеству. Во всех них так характеризуется основная религиозная черта эпохи с ее тоской по божественному; и все философы, принадлежащие к этой группе, имели в виду в своих дискуссиях не теоретическую цель постижения мира, а практическую цель его искупления.
Для такого определенно религиозно-практического направления, конечно, была слишком очевидна опасность отодвинуть научный момент на второй план, стряхнуть, насколько это возможно, ограничения диалектики и методологии и полностью уйти в царство мистики и суеверий. Стоики, эпикурейцы и скептики также находили фокус своих исследований в практическом и в конечном итоге хотели лишь дать «инструкции для блаженной жизни». Но все они по-прежнему верили в то, что источник спасения находится в самом человеке, в его способности выковать свою судьбу и утвердить себя в борьбе с превосходством внешней реальности. Научный дух классической философии Платона и Аристотеля, как правило, был еще слишком жив в них, чтобы слишком далеко отклониться от верного пути методичного познания. В поздней греческой философии религии этого духа уже не было. Она больше не верила в возможность самоискупления человека. Так же как она считала, что оно должно основываться на чудесном акте божественной благодати, действующей на человека извне, она ожидала обогащения теоретического знания только от влияния откровения; и поскольку она уже не могла различать между бытием и видимостью, между реальностью и воображением, с прогрессирующим одичанием духов и упадком научного мышления, она тоже была охвачена ведьмиными шабашами всеобщей путаницы понятий. Дикая фантазия, лишенная дисциплины и сдерживания, начала зарастать всеми теоретическими объяснениями.
Всякая объективность исчезла под ядовитым дыханием восточного символизма. На место понятия стала приходить пышная образность. То, что у Платона было осознанным мифом, в зависимой от него религиозной философии становилось все более и более вещью. Утомленная научная мысль тщетно восставала против растворения своего содержания в символах, аллегориях и мифах. Источник диалектического развития иссяк. Понятия превращались мыслителями в реальные личности и самостоятельные сущности. Но в пробелы их знаний, признать которые у них не хватало ни сил, ни научной серьезности, хлынули мутные потоки суеверного фантастического мира, грозя смыть даже последние остатки благоразумия. Еще несколько шагов по этому пути, и античная философия была полностью поглощена хаосом религиозного натурализма, из которого она так кропотливо выбиралась.
То, что этот конец наступил не так скоро, что дух древнего эллинизма, который с тех пор, как Александр впервые вывел его на простор и величие, неуклонно шел вниз и все больше терял себя в результате смешения с иноземными, особенно восточными элементами, что этот дух вновь обрел силу подняться до действительно значительного философского достижения и что конец все еще откладывался, – заслуга той философской школы, которая сделала клич «Назад к Платону! « в качестве своей отличительной черты, и которая по этой причине известна как школа неоплатонизма.
Первый раздел. Родина и происхождение Неоплатонизма
I. Духовная жизнь в Александрии
Неоплатонизм имеет свою первоначальную родину в Александрии. Основание великого македонского царя, резиденция и питомник Птолемеев, любивших искусство и образование, была самым мощным торговым городом поздней античности, рядом с Римом – самым влиятельным городом Средиземноморья, а по интеллектуальному значению превосходила даже центр римского мирового господства на Тибре. Расположенная как бы посередине между ними, Александрия играла роль посредника между древней культурой восточных народов и народов Запада, между эллинами и варварами, благодаря своей торговле, а также интеллектуальным стимулам, которые исходили из этого космополитического города, и была центром всех уравнительных и универсалистских тенденций античности, особенно благодаря смешению народов со всего мира, которых объединяла здесь торговля. Все новшества в жизни и науке, независимо от их природы, находили наиболее благоприятную почву для своего появления и распространения в интеллектуально активном населении этого города, в котором греческий элемент задавал тон. Александрия была центром античной образованности. Здесь находилась самая большая библиотека в мире. Здесь самые знаменитые ученые преподавали в музее, самом выдающемся университете, используя все доступные на тот момент научные пособия, такие как обсерватории, ботанический и зоологический сад и т. д. Здесь, как нигде, методично и точно велось познание мира опыта.
Наибольшей известностью пользовалась александрийская математика. Под влиянием и благодаря мудрости египетских жрецов, чей престиж уже заманил Солона, Фалеса, Пифагора и Платона в страну чудес пирамид, эта наука пережила свой наибольший расцвет в Александрии в эпоху античности. В Александрии, в числе первых Птолемеев, Евклид около 300 года до н. э. написал первый учебник по математике, который сохранил свою репутацию и по сей день. Именно здесь Архимед из Сиракуз (287—212 гг. до н. э.) получил самое важное вдохновение для своих эпохальных работ по кругу, сфере и цилиндру, а также для фундаментальных открытий законов статики, гидравлического давления, удельной силы тяжести, рычага и т. д. Аполлоний Перганский также отличился как математик благодаря своей теории конических сечений, а Герон и Ктесибий преуспели в механике, первый – благодаря исследованию силы пара и давления воздуха и изобретению военных машин и всевозможных автоматов, второй – благодаря созданию гидравлического пресса, водяных часов и пожарной машины.
Астрономия всегда была тесно связана с математикой в Александрии. То, что египетские и вавилонские жрецы изучали, наблюдая за небом, греки собирали, просеивали, систематизировали и перерабатывали в дальнейшие открытия. Помимо Евклида, знаменитый Аристарх Самосский преподавал в Александрии около 280 года до н. э. и, следуя пифагорейским догадкам, утверждал, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца, тем самым предвосхитив огромное достижение Коперника, хотя и не добившись успеха в своей точке зрения. Кроме него, особенно отличился Гиппарх Никейский (во второй половине II века до н. э.), составивший звездный каталог и открывший движение равноденствий, а Клавдий Птолемей обобщил работу своих предшественников около 150 года н. э. в своем великом руководстве по астрономии, которое оставалось авторитетным на протяжении всего последующего периода вплоть до Коперника и поддерживало славу александрийских исследований на протяжении всего Средневековья.
Помимо астрономии, в Александрии увлекались и географией. Птолемеи соперничали с Селевкидами из Антиохии в том, чтобы сделать наблюдения и знания о чужих землях, морях и народах, полученные во время великих завоеваний Александра, плодотворными для науки и расширить их с помощью новых географических экскурсий, специально оборудованных для этой цели. Эратосфен из Киринеи (2.76—194 гг. до н. э.), в равной степени выдающийся географ, математик, астроном, грамматик, историк литературы и поэт, уже составил первый проект карты Земли и переработал географию на основе представления о шарообразной форме Земли; а ученые Александрии неустанно занимались научной обработкой накопленных в библиотеках отчетов по географии и этнологии.
Кроме того, александрийская медицина всегда пользовалась большим уважением. Александрийская медицинская школа своими достижениями превзошла две ранее наиболее известные школы – Книдоса и Коса, к которым принадлежал великий Гиппократ. В лице Герофила при первом Птолемее она стала обладателем одного из величайших медицинских гениев древности. В Александрии с равным мастерством занимались анатомией и хирургией. Вопрос о том, что должно быть решающим фактором в медицине – общетеоретические рассуждения или наблюдения и практический опыт, – был предметом самых жарких споров между так называемыми «догматическими» и «эмпирическими» врачами.
Однако все эти важные достижения в области точных наук почти затмили в памяти более поздних времен ту славу, которой смогли добиться александрийцы в области филологии, грамматики и истории литературы. Две библиотеки – в Брухиуме и в храме Сераписа – предоставляли почти неизмеримые ресурсы для научных исследований; и бесчисленны были ученые, которые пытались просеять и обработать интеллектуальные сокровища, накопленные в них. Во главе библиотек стояли такие люди, как Зенодот и поэт Каллимах, составившие великий каталог. Аристофан Византийский и Аристарх Самосский во втором веке до нашей эры вместе с Эратосфеном стали основоположниками научной филологии. Дионисий Фракиец написал первую греческую грамматику; и в то время как текстовая критика занимала большую часть александрийской учености, другие работали, комментируя произведения поэтов и философов, особенно Платона и Аристотеля, собирая и интерпретируя мифы существующих религий и научно анализируя и определяя самые разнообразные аспекты человеческой культуры на основе их опытного исследования. – Однако к моменту возникновения неоплатонизма в Александрии александрийская наука уже не достигла своего былого расцвета. Общий упадок научной мысли давал о себе знать и здесь, а также поколебал строгость точной методологии. В естественных науках угас прежний энтузиазм, благодаря которому в прошлом были достигнуты столь поразительные результаты. Шаги точных исследователей стали бесцельными и неуверенными. Результаты эмпирического знания смешались с мутными фантазиями суеверий. Они уже превратили астрономию в астрологию, химию – в алхимию, а физику – в сомнительное соседство с магией и мантикой. Но и филология александрийцев зашла в тупик. Рвение к исследованию древних писателей, объяснению их произведений и созданию правильных текстов еще не угасло. По-прежнему хватало людей, которые были украшением своей науки; более того, возможно, активность в этой области никогда не была столь велика, как на рубеже третьего века нашей эры. Однако на всех этих начинаниях уже поселилась плесень мертвой учености, суеты и деятельности без цели и смысла, которая и по сей день выводит александрийскую ученость из разряда почетных титулов и превращает «александрийство» в обозначение бездумного собирательства, научного педантизма и бесплодных ученых препирательств.
Для философии вся эта филологическая ученость была особенно актуальна, поскольку поддерживала живую связь с ранними мыслителями. Спор, разгоревшийся среди платоников и перипатетиков в Афинах во II веке о сходствах и различиях между Платоном и Аристотелем, оживленно обсуждался и александрийскими филологами. Они и здесь стремились прийти к окончательному решению, как можно точнее определив текст и смысл слов обоих философов. Конечно, в Александрии не было недостатка в тех, кто, подобно перипатетику Алкиною, отдавал предпочтение согласию двух философов перед их противоположностью и тем самым поддерживал идею детального философского воплощения синтеза двух мыслителей. Ведь одно из любимых мнений всего этого периода, повсеместно стремившегося к примирению противоположностей и согласованию, заключалось в том, что даже две величайшие философские системы прошлого не могут в корне противоречить друг другу. Таким образом, именно на Ниле мысли людей особенно живо волновали фундаментальные вопросы прежней философии; более того, философская увлеченность ими означала, что и другие выдающиеся мировоззрения прошлого обрели здесь новых приверженцев, что старый Гераклит был возрожден, а Пифагор, благосклонный к александрийской математике и египетским мистериям, возможно, имел в Александрии самых восторженных последователей.
Конечно, в таком городе, как Александрия, были представлены и постклассические системы. Хотя они уже не имели теоретической подготовки, да и вряд ли были пригодны для такой подготовки, они все еще оказывали большое практическое влияние. Наряду с эпикурейцами, для которых философия часто служила лишь прикрытием и оправданием их чувственного гедонизма и легкомыслия, последователи Стоа старались поддерживать интерес к своему серьезному и полнокровному взгляду на жизнь. В Александрии в I веке н. э. Энесидем развил пирроновские аргументы против возможности познания и оставил после себя в широких кругах настроение, склонное к скептицизму. Здесь, среди многочисленных евреев великого торгового города, происходило впитывание эллинских идей в их веру, что привело к внутренней трансформации и дальнейшему развитию иудейской религии и позволило ей вступить в конкуренцию с другими существующими религиями. В Александрии был переведен на греческий язык Ветхий Завет, который впервые познакомил древних с монотеистической концепцией Бога и дал толчок попыткам философов сформулировать единство и сверхъестественность Бога более решительно, чем прежде. В Александрии жил еврей Аристобул, который сознательно стремился объединить иудейский монотеизм с греческой философией, особенно с Пифагором и Платоном, и придерживался мнения, что идеи этих двух философов, да и гомеровские и орфические доктрины богов, были всего лишь заимствованиями из Моисеева и пророческого писания. В александрийском иудаизме персидско-иудейская концепция Слова слилась со стоической концепцией Логоса и Мудрости (ao^ta) и египетской концепцией Хнума (Мент-Харсеф), второго члена египетской триады богов (Амун-Хнум-Кнеф), и Мудрость выросла из простого атрибута Бога в независимый метафизический принцип, посредничающий между трансцендентным Учителем и миром. Наконец, Филон, важнейший представитель всего этого направления, объединил ветхозаветную концепцию Бога и жизни с платоновской философией в целостное религиозно-философское мировоззрение, которое в определенном смысле должно было стать образцом для всей философии религии последующего периода.