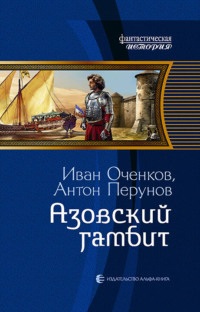Полная версия
Пушки царя Иоганна

Иван Оченков
Пушки царя Иоганна
А бывали ли вы на торжище в Москве? А приходилось ли вам видать всякие диковины, что привозят заморские гости в стольный град? А пробовали ли вы всякие вкусности, что продают в обжорном ряду? Эх, сразу видно, что не бывали вы в Москве. Старики, правда, говорят, что раньше она была еще больше да краше, нежели сейчас, да кто те времена помнит-то? Вот Смуту, будь она неладна, помнят все. А чего, всего шесть лет прошло, как ополчение выгнало ляхов из Москвы, да пять – как государь Иван Федорович отобрал у поганых латинян обратно Смоленск. Ох, смел да удачлив новый царь русский, да и роду он высокого, шутка ли сказать, от Никлота – старшего сына Рюрика ведется, не то что всякие разные имеющие наглость именовать себя Рюриковичами! Вот за те пять лет, что прошли с его возвращения из похода, и расцвела Москва. Пепелища застроили, оскверненные поляками церкви освятили, и стала Москва краше прежнего. Купцы в нее потянулись почти сразу же. Потому как государь пуще всего не любит… ну, наверное, латинян, но после них, точно, больше всего он не жалует татей да душегубов. А потому всякий разбой он в Москве и ее окрестностях извел под корень. Нет, ну осталось, конечно, по малости, как без того, но все же разбойнички попритихли. Оно, по правде сказать, царев стольник Корнилий Михальский – сам первый на всю Святую Русь душегуб! Но царю сей беженец из Литвы верен и без его повеления никого не трогает. А вот разбойников да воровских казаков царь велел извести, и сей Корнилий тут постарался, ничего не скажешь!
И вот теперь купчишки со всего свету в Москву едут. Кто шелка драгоценные везет, кто злато-серебро, кто еще чего. Вот Ибрагим-персиянин коврами шемаханскими торгует, ну и всяким иным товаром, что из Персии-то везут.
– Смотри, красавица, какие серьги у меня есть! – зазывает он довольно богато одетую молодую горожанку, гуляющую по рынку без сопровождения.
Ибрагиму чудно, что женщины тут ходят с открытыми лицами, а пуще того – что девушка без присмотра мужчин. «Эх, заманить бы тебя в шатер, да увезти… – думает, прицокивая языком, купец, – такую красавицу самому шахиншаху в гарем продать можно». Но девица ничуть не заинтересовалась его предложением и равнодушно отвернулась.
– Вай, денег нет, так и скажи, – разозлился купец, – замуж выйди, пусть тебе муж серьги покупает!
– Вот ты своей жене и подари, – тут же откликнулась бойкая на язык горожанка.
Собравшиеся вокруг зеваки немедленно откликнулись на ее слова дружным смехом. Побагровевший купец хотел было выругаться, но заметил другого подходящего клиента и передумал.
– Вай, боярин, купи серьги жене, не пожалеешь!
– Не женат я… – со вздохом отвечает ему молодой человек в богатом зипуне и собольей шапке, украдкой посматривая на отшившую купца красавицу.
– Вот купишь серьги – и посватаешься, – тут же подхватывает Ибрагим, – с таким даром ни одна тебе не откажет!
– Ой ли? – немного грустно усмехается тот, и вдруг с озорной улыбкой обращается к девушке: – Скажи, красна девица, верно ли, что с таким даром любую можно просватать?
– Коли люб ей будешь, – неожиданно серьезно отвечает ему она, – так и без серег за тебя пойдет. А не люб, так и все злато мира не поможет, не то что серьги!
– Что ты такое говоришь, глупая женщина! – не выдерживает перс, – где это видано, чтобы злато в любви не помогало!
Но девушка, не слушая его, уходит прочь. Молодой человек, которого Ибрагим назвал боярином, несколько оторопело смотрит ей вслед, очевидно готовый бежать за ней вприпрыжку. Затем взгляд его цепляется за украшение, до сих пор лежащее в руках купца. Серьги действительно чудо как хороши, и парень машет рукой.
– Сколько?
– Три рубля, – расплывается в улыбке Ибрагим.
– Сколько?! – едва не задыхается покупатель, но горожанка вот-вот скроется с глаз, и он не глядя кидает купцу кошель и, получив вожделенные серьги, бросается за ней.
Увы, девушки уже не видно, и он только что не бегом пытается ее нагнать. Вот закончилась рыночная площадь, и он бежит уже, забыв о степенности, по мощенной бревнами улице. Кажется, ее ярко-красный платок мелькнул за ближайшим поворотом. Парень, громко бухая подкованными сапогами, пробегает по улице, но так никого и не находит. Растерянно глазеет он на окружающие его терема, пытаясь понять, куда она могла скрыться. Через минуту его догоняют холопы, ведущие под уздцы коня.
– Охти нам, княжич, – причитает один из них, – чего это ты удумал бегом бегать?! Да еще и один – а вдруг лихие люди?
– А не ты ли мне говорил, что при новом царе на Москве разбойников не стало?
– Так ведь оно раз на раз не приходится. А уж коли беда приключится, так что тогда делать? Что я тогда батюшке твоему скажу?
– Полно причитать, старинушка, – хлопает княжич по плечу старика, – скажи лучше, нельзя ли узнать, кто здесь живет?
– А чего там узнавать, – отзывается тот, – это стрелецкая слобода. Вон тот большой терем с лавкой – стрелецкого полуголовы Анисима Пушкарева. За ним сразу двор стольника Корнилия Михальского, а вот этот – окольничего Никиты Вельяминова.
– Чего? – едва не задыхается от удивления молодой человек, – так они здесь живут?!
– Скажешь тоже, княжич, – искренне удивляется старик, – знамо дело, они все, кроме Пушкарева, в кремле живут в царских палатах, потому как они государевы ближники. Ну а тут дворы имеют, хозяйство да холопов.
– А чья же тут девка такая красивая…
– Господи Иисусе! Княжич, да что же ты все как отрок неразумный, за девками бегаешь? Ить ты на службу приехал! Мало ли в Москве девок? Может, холопка чья.
– Нет, не холопка… уж больно горда.
– Ой, не знаю, княжич. Люди сказывают, что у Пушкарева дочери названые вельми красивы да своенравны. А все от того, что государь к их семейству благоволит, и даже обещал за них приданое дать.
– Да верно ли это?
– Люди говорят!
– И что, сватают?
– Того не знаю, а старшая уже заневестилась, так что, может, и сватают. Только ведь тут как… знатный человек стрелецких дочек не возьмет, а за простецов те сами не пойдут.
– Эва как…
Окольничий Вельяминов и впрямь был первым царским ближником и проживал вместе с государем в его палатах. Но была у него сестрица младшая. Люди сказывали, будто бы красавица она, да такая, что хоть парсуны## с нее пиши. Но не в том диво, что красива она, ибо ни в какой другой стороне нет девиц краше, чем в земле Русской. А в том диво, что была она грамоте обучена, книги читать любила, и сказывали даже, будто не только по-русски, но и по-иноземному. Оно, конечно, врут много люди, а только чем нечистый не шутит, когда бог не смотрит?
## Парсуна – тогдашнее русское название портрета, от слова «персона». Здесь и далее примеч. авт.
Ради соблюдения приличий проживала девица не в царских палатах, а в братнем тереме, окруженная мамками и няньками. Брат у ней бывал почитай что каждый день, ибо любил сестру очень. Да и не было у них никого больше на всем белом свете.
– Здравствуй, Аленушка, – ласково поприветствовал сестру окольничий, заходя на ее половину.
– Здравствуй, милый братец, – отвечала она ему с поклоном.
– Каково поживаешь?
– Как в тюрьме, братец. Сижу, будто невольница в золотой клетке.
– Грех тебе такое говорить, Аленушка! – возмутился брат.
– А тебе не грех сестру будто пленницу держать? Света белого не вижу! В церковь и то с оравой надзирателей!
Выросшая в деревне Алена привыкла к свободе, совершенно необычайной для других боярских дочек. Даже после переезда в Москву она долгое время жила почти самостоятельно, пока брат был в походах с государем. Но мирная жизнь понемногу налаживалась, и вместе с миром в их дом пришел Домострой##.
## Домострой – свод правил в допетровской Руси.
– Вот выйдешь замуж, – отозвался привыкший к таким претензиям Никита, – заживешь полной хозяйкой. А пока не обессудь: перед людьми неудобно.
– Ты про что это? – насторожилась девушка.
– Аленушка, – брат попытался сделать голос вкрадчивым, но у него плохо получилось, – ты же знаешь, что я тебя люблю и только добра тебе желаю!
– И что?
– Князь Буйносов к тебе сватается, – вздохнул окольничий, ожидая бури.
– Не пойду за него, – неожиданно спокойно сказала девушка.
– А за кого пойдешь? – нейтрально поинтересовался он.
– Сам, поди, знаешь, – усмехнулась Алена.
Медведеподобный Никита не боялся в жизни ничего. Ему приходилось идти грудью на сабли, грести веслами на галере, осаждать города и самому сидеть в осаде. По большому счету, он не боялся даже царя, ибо они были с ним друзьями. К тому же Иван Федорович был справедлив, и ни на кого зазря опалы до сих пор не возложил. Но вот такого взгляда сестры он боялся, поскольку не мог ему противостоять.
– Женат он… – вздохнул Вельяминов и отвернулся.
– Ой ли?.. – певуче протянула девушка, – и кто ту жену заморскую видел?
– Я видел. Кароль видел. Мишка Романов и тот видел!
– И где же она? – не унималась Алена. – Сколь годов государь над нами царствует, а народ не видал ни царицу, ни царевича, ни царевну…
– То государево дело, – нахмурился брат. – Не смей судить! Она сестра свейского короля, через нее у нас с ним мир.
– А я не осуждаю, – опустила глаза боярышня, – только сам знаешь – суженый он мой. Ни за кого другого не выйду, так и знай!
– Так и за него не выйдешь! Не разведется он с ней, ибо любит ее, и сына с дочкой!
– За царевича c царевной слова не скажу, – не согласилась с ним девушка, – а вот за жену – это ты, братец, зря. Уважает он ее, это верно. Почитает как жену и мать своих детей. А вот любить не любит, иначе бы… сам знаешь.
– О господи! – вздохнул окольничий, – Да за что же мне это все? А вот если повелю за Буйносова идти?
– Утоплюсь!
– Тьфу!
Раздосадованный Никита Иванович потоптался немного, но видя непреклонность сестры, сдался и оглядел горницу. У стены стоял завешанный кисеей станок для вышивания, на котором Алена занималась рукоделием. Отодвинув рукою занавесь, он посмотрел на вышивку, но увидев, едва не уронил хлипкое сооружение на пол. С натянутого на рамку холста на него смотрел собственной персоной государь всея Руси Иван Федорович. Причем не нынешний, в русском платье, с небольшой аккуратной бородкой, а тот прошлый, который когда-то вытащил его из-за галерного весла и взял к себе на службу. В рейтарском камзоле, с развевающимися длинными волосами и вздымающего на дыбы коня. Царский окольничий сразу же узнал картину, с которой сделана вышивка, и это заставило его заскрипеть зубами. Все дело было в том, что написал ее заезжий голландский художник – дальний родственник царского розмысла##1 Ван Дейка. Но бояре, увидев ее, начали кривить губы, и мастер, по приказу царя, написал другой портрет. На нем Иван Федорович был в шитом золотом платне##2 и казанской шапке##3. Волосы острижены, а лицо покрыто приличной его сану бородой. Никакого вздыбленного коня нет, а в руках скипетр и держава. В общем, все, как и положено православному государю. Вот эту картину и повесили в думном зале. А ту, что художник писал ранее, разместили во внутренних покоях царя, рядом с парсунами Катарины Свейской и детей: царевича Карла и маленькой царевны Евгении. И все бы ничего, да только в тех покоях мало кто бывал и убранство их видел.
##1 Розмысл – инженер.
##2 Платно – царский наряд из парчи, затканной золотом.
##3 Казанская шапка – второй по значимости венец русских царей после шапки Мономаха. Изготовлен по приказу Ивана Грозного после взятия Казани.
– Аленушка, – глухо проронил заподозривший неладное брат, – голубица моя, а ты где сию парсуну видела прежде?
Промелькнувшие в голове окольничего одна за другой страшные мысли, как видно, отразились на его лице, но боярышня, ничуть не испугавшись его потемневшего от еле сдерживаемого гнева лица, шагнула вперед и взяла с полки красивую книгу с медными застежками. Отстегнув их, она раскрыла страницу и показала брату картинку, точь-в-точь повторяющую и парсуну, висевшую в покоях царя, и вышитый Аленой гобелен.
– А ты чего подумал, братец?
– Фух, – выдохнул Никита, – ничего не подумал, сестрица моя милая. Просто удивился; а откуда у тебя сия книга?
– Отец Игнатий принес.
Окольничий снова нахмурился. Ректор недавно созданной Славяно-греко-латинской академии отец Игнатий учил его сестру немецкому языку и латыни. Бывший иезуит в последнее время совершенно обрусел, делу просвещения юношества всячески радел и потому пользовался покровительством государя. Про книгу, написанную им, Вельяминов слышал, хотя видеть до сих пор не приходилось. Собственно, это должно было быть две книги. Одна для русского читателя, а другая для иноземцев. Если бы Никита Иванович был силен в литературе, он бы знал, что немецкая версия это не что иное, как рыцарский роман, повествующий о том, как странствующий германский герцог совершил множество подвигов, в том числе и галантных, за которые простодушные, но добросердечные московиты и избрали его своим царем. Еще в ней широкими мазками дегтя марались католики вообще и поляки в частности, изображенные совершеннейшими злодеями и варварами. Отцу Игнатию, возможно, было не очень приятно писать такое о вчерашних братьях по вере, только ведь у Ивана Федоровича не больно-то забалуешь. Особенно если вспомнить прежние прегрешения иезуита. Русскую версию написал царский духовник отец Мелентий, и она была скорее «Житием» совершенно святого человека, который только и делал что молился и творил богоугодные дела, а если и брался за меч, то только за правое дело и напутствуемый отцами церкви. Творение отца Мелентия предназначалось для рассылки по городам и монастырям Русского царства, а труд Игнатия – в подарок властителям протестантских государств. Как сказал государь, с целью создания благоприятного имиджа. Что такое имидж, окольничий не знал, а вот что засидевшуюся в девках сестру пора выдавать замуж – понял абсолютно точно.
Спать после обеда – дело святое! А если ты с утра отстоял все положенные службы, затем едва не помер от голода, пока в трапезную подали завтрак, потом, толком не подкрепившись, заседал в думе, и, наконец, с трудом дождавшись обеда, наблюдал за боярскими сварами, вместо того, чтобы спокойно поесть – так просто необходимое. Вот кто бы мог подумать восемь лет назад, что я окажусь в семнадцатом веке в теле германского принца, за которым охотится инквизиция?.. Впрочем, поймать меня им не удалось, и я добрался до Швеции, где подружился с ее будущим королем Густавом Адольфом и так понравился его отцу, что он выдал за меня свою дочь – принцессу Катарину. Хотя в этом времени я не Иван Никитин, а Иоганн Альбрехт Мекленбургский, последний из рода Никлотичей. Между прочим, прославленный полководец, победитель датчан, поляков и всех кто под руку попадется. Просто так уж случилось, что я немного знаю о путях развития военного искусства и смог так организовать свою маленькую армию, что с ней в этом времени мало кто может совладать.
Все эти таланты так впечатлили мою венценосную родню, что они отправили меня в Россию поспособствовать избранию на Московский престол младшего брата Густава Адольфа – принца Карла-Филипа. Совершенно невероятным образом мне удалось преуспеть в этом начинании, но шведский принц, к несчастью, заболел и умер, а на Земском соборе царем выбрали не юного Мишу Романова, а меня. Вот ей-богу, я этого не хотел! У меня и так все неплохо складывалось, но отступить в тот момент было никак нельзя. В общем, так я и стал царем. Однако скоро выяснилось, что должность эта совсем не сахар! Увы, мне, наивному: думал, вернусь с победой, отвоевав у Сигизмунда Смоленск – укреплю свою власть настолько, что смогу избавиться от некоторых изрядно надоевших боярских рож. А также изменю хотя бы некоторые замшелые порядки, привезу жену, устрою двор на европейский манер и буду жить долго и счастливо. Ага, как бы не так.
Во-первых, моя ненаглядная Катарина Карловна наотрез отказалась менять веру. Дескать, была лютеранкой и помру ей, а если твоим новым подданным не нравится – так я не новенький талер, чтобы всем нравиться. Духовенству и продолжавшему заседать Земскому собору все это, естественно, не по нутру, а потому драгоценная моя супружница продолжает проживать в европах, где твердо правит моим княжеством и воспитывает наших детей. Ну да, детей, последний мой визит в Стокгольм, когда я подобно заправскому барышнику выменял у Густава Адольфа Ригу на Новгород, имел то последствие, что старшая сестра моего венценосного приятеля родила очаровательную, как все говорят, дочку. О том, какие у меня мысли по поводу ее имени, разумеется, никто и не подумал спросить, так что малышку нарекли Евгенией и крестили в лютеранской вере. Поскольку пределов Руси я с тех пор не покидал, то маленькую принцессу Евгению еще не видел. Спасибо хоть портрет прислали.
Во-вторых, власть моя хоть и окрепла, а верноподданные неустанно благодарят всевышнего за то, что он ниспослал им такого правителя как мое величество, до абсолютной ей – как до луны. Все мои действия связаны очень крепкой, но при этом невидимой паутиной. Избавиться от очередной надоевшей боярской рожи, конечно, можно. Но лучше всего это сделать, отправив его на кормление в богатый город. Нет, можно, конечно, и в опалу, но тогда вся его родня будет постоянно нудить, чтобы простил. А если не простить, обидятся и начнут строить козни. Так что легче – на кормление. Но, с одной стороны, городов на эту ораву не напасешься, а с другой – он ведь там все разорит к едрене фене! Причем полбеды, если просто воровать будет. Это практически в порядке вещей, недаром управление городами и носит название «кормление». Так нет же, может просто испортить все, до чего дотянется.
И, в-третьих (по порядку, но не по значению) – обычаи. Распроклятые освященные временем обычаи! Что значит – царь-батюшка желает устроить театр? Мы Москва – Третий Рим, у нас так не принято! Как это – в Мекленбурге знатные господа ездят ко двору на приемы с женами и дочерями? Да господь с тобой, кормилец! В неметчине хоть верхом на них езди, а тут мы баб своих будем взаперти в теремах держать. А то еще сглазят их, чего доброго! Единственная отрада – ездить иногда в Кукуй к Лизхен. В принципе, бояре знают, что я туда мотаюсь, но поскольку делаю это тайком – закрывают глаза. Правда, моя Лиза уже тоже не та робкая и наивная девочка, воспитанница Анны. Бывшая маркитантка раздобрела, обзавелась домом и трактиром при нем. Скопила немало денег и дает их в рост под большие проценты. Таких недоумков чтобы отказались возвращать, еще не было, так что бизнес идет в гору. Замуж я ее сам выдал, когда она в первый раз забеременела. Нашелся среди наемников один начисто лишенный щепетильности субъект по имени Курт Лямке. Вправду сказать, Лизхен выбрала его сама. Говорят, он во время одного из сражений начисто лишился возможности иметь детей. Так это или не так, я проверять не стал, но моя маленькая маркитантка теперь замужняя фрау, ну и мне от всего этого как-то спокойней. Муж ее занимается трактиром, дело ведет старательно, разве что напивается каждый вечер, что, учитывая его ситуацию, совершенно неудивительно. Но это уже не мое дело, я тут вроде как и ни при чем, у них своя жизнь, у меня своя, просто маленькая Марта Лямке со временем получит хорошее приданое. Что «некрасиво»? Ну уж как есть.
Выспаться своему царю на сей раз не дали, поскольку из Смоленска прискакал гонец с какой-то важной вестью и незнамо как проперся через все кордоны до моих покоев. Сколько раз говорено, что прежде чем попасть пред мои светлы очи, гонца надобно проверить, депешу прочитать, а то были, знаете ли, случаи… Нет, как об землю горох, написано «царю», значит – царю! Ох, чую, зарежут меня бедного через ваше нерадение! Правда, тут я перегибаю палку. В соседней горнице вповалку лежат мои спальники. Они и придворные, они и последний рубеж обороны в случае чего. Правда, у них, обормотов, прямая обязанность – охранять мой сон, а не… Нет, ну вот как у людей получается говорить шепотом и одновременно басом?
– Эй, вы, чего там стряслось?
– Ой, а ты не спишь, царь-батюшка!.. А мы-то тут твой покой храним, глаз не смыкая…
– Так это ты с открытыми глазами так храпел, идол?
– А тут гонец, от князя Прозоровского из Смоленска…
– И что пишет?
Гонец – молодой крепкий парень с запыленным лицом – делает шаг вперед и, сняв шапку, падает в ноги. Вот еще обычай, который меня откровенно бесит!
– Государь, королевич Владислав прибыл в Литву и собирает войско.
Новость это хоть и неприятная, но нельзя сказать чтобы неожиданная. Мой драгоценный родственничек все это время плакался, что какой-то мекленбургский выскочка лишил его законного Московского престола. Радные паны до поры до времени отнекивались, потому как врагов у Речи Посполитой и без того много, а денег как раз мало, но как ни крути, а королевич прав. Семибоярщина его в свое время пригласила на царствие, а в том, что не срослось – немалая доля моей вины. К тому же в Польше и Литве у меня много, скажем так, поклонников, желающих свести счеты.
– Долго скакал?
– Три дня, государь.
Три дня – это быстро, хотя и не рекорд. Но, в общем, человек старался.
– Зовут как?
– Истома Гуляев.
– Вот что, Истома: за службу тебе жалую полтину, а сейчас ступай отдыхать. А вы собирайте боярскую думу, раз уж такое дело… Что значит «спят»? Я же не сплю!
Вид помятых и заспанных бояр, с кряхтением и оханьем рассаживающихся на лавках, немного утешил меня и я, устроившись на троне поудобнее, смотрю на них почти ласково.
– Ну что бояре, будем делать? – спрашиваю, едва дьяк закончил читать привезенную гонцом весть.
– Да чего тут делать, государь, – степенно отвечает Черкасский, – все уж сделано. Литва более десяти тысяч войска не выставит, а ляхам надобно границу с турками охранять. А у смоленского воеводы Семена Прозоровского восемь тысяч ратников, да наряд справный, да за крепкими стенами. Бог даст, отобьется!
Дмитрий Мамстрюкович знает, о чем говорит. Именно он был до последнего времени смоленским воеводой, и укреплялся город под его руководством.
– А если Владислав обойдет город стороной да и двинется прямиком на Москву?
Черкасский на минуту задумывается, а потом, решительно взмахнув рукой, говорит, как рубит:
– Нет, все лучшие ляшские войска Ригу осаждают, не хватит у них сил и там и сям воевать!
Остальные бояре лишь трясут бородами, соглашаясь с прославленным полководцем. К тому же он самый знатный из них всех, и потому имеет право первым держать голос. Если бы говорить начал Вельяминов, то косоротились бы, а так все нормально. Кстати, а где Никиту нечистый носит?
– Ты, князь Дмитрий Мамстрюкович, все верно говоришь, – поднимается со своей лавки Иван Никитич Романов, – а только как быть, если с королевичем запорожцы пойдут?
Вопрос больной. Именно казаки были главной силой многочисленных самозванцев во время Смуты, и если они в очередной раз поднимутся, то поляки получат тысяч двадцать искушенных в боях и грабежах воинов. С таким воинством королевич запросто сможет блокировать Смоленск и двинуться на Москву. Взять-то он ее вряд ли сможет, я все это время зря не сидел, но разорения нанесет столько, что и представить себе трудно. А ведь земля только-только отходить начала после Смутного времени…
– Государь, – встал еще один боярин, князь Данило Мезецкий, – казаки запорожские, конечно, та еще сарынь##, и вреда от них много было, да и еще будет, но только мы им немало острастки задали, и не пойдут они, на сей раз. Как говорят у них на Сечи – с Иваном Мекленбургским воевать дураков нет!
## Сарынь – то же, что и сволочь.
– Это тебе сам Сагайдачный сказал? – нейтральным голосом интересуюсь у попытавшегося польстить мне князя.
– И не только он, – не смущается боярин, ездивший с дипломатической миссией в те края, – а и другие атаманы. Яшка Бородавка, к примеру.
– Не гневайся, государь; и ты, князь Данило, – невесть откуда появляется, наконец, Никита Вельяминов, – да только нет у меня веры воровским казакам. Пообещают им добычу знатную – и эти христопродавцы не то что под знамена католиков, а под бунчуки султана турецкого станут.
– Это верно, – сокрушенно вздыхает Мезецкий, – да только откуда у нас добыча? Разорены мы, босы и наги.
От одетого в богатую ферязь боярина это заявление звучит немного комично, но в главном он прав. Все что казаки могли на Руси украсть, уже украли.
– Ладно, бояре, – подытоживаю я, – раз ни у кого больше никаких мыслей нет, то расходитесь. Но вы все же обдумайте, авось чего-либо надумаете.
Бояре, кряхтя и охая, начинают расходиться, и только избранные, так называемый малый круг, через малое время собираются в моем кабинете. Самый старший из них по возрасту – Иван Никитич Романов. Он же самый знатный, потому как принадлежит к старомосковской знати. Во время выборов царя он был сторонником моего безвременно умершего шурина, а после его смерти стал моим. Находящегося в плену у поляков брата Филарета он недолюбливает и даже побаивается, и в этом смысле он самый верный мой сторонник.