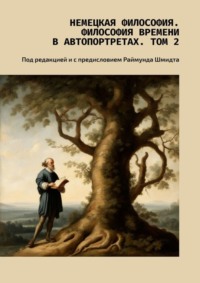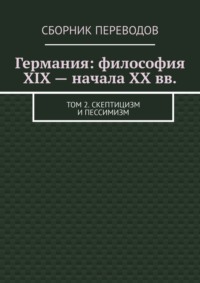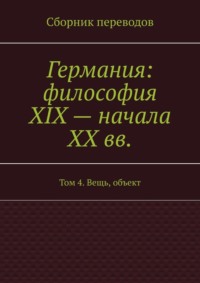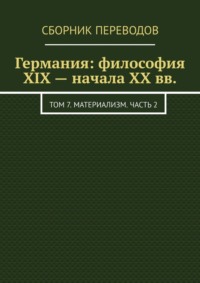Полная версия
Германия: философия XIX – начала XX вв. Сборник переводов. Том 5. Номинализм
«В процессе возникновения органической природы та высшая природа, которую мы обозначили (A3), все еще ведет себя отчасти субъективно, ибо она еще не полностью реализована. Стадии, через которые она проходит, пока не станет полностью объективной, обозначаются различными организациями».
Таким образом, Шеллинг не только реалистически осмыслил высший принцип, но и детально проработал его. Общие формы природных явлений стали для него самостоятельными потенциями, подчиняющими себе материю, дремлющими, как платоновские идеи в лоне Абсолюта, и проявляющимися, каждая в определенное время. Все развитие природного бытия основано на этом последовательном возникновении субстанциальных форм, особенно органической жизни, восходящая структура которой основана на том, что «субъект органической природы», оформляющий себя в материю, лишь постепенно преодолевая сопротивление объективного, охватывает в своем процессе объективации именно те стадии, которые «обозначены различными организациями». Таким образом, в натурфилософии Шеллинга наиболее ярко проявляется виталистический взгляд, полностью отброшенный современной биологией, а с другой стороны, в ней можно обнаружить зародыши теории происхождения, получившие дальнейшее развитие, в частности, у Окена. Но не следует упускать из виду, что в творчестве Шеллинга эти зародыши теории происхождения также проросли из виталистической почвы, поскольку, согласно натурфилософии, ни одна ступень организации не переходит сама собой в более высокую, так же как материя не организует сама себя, а продолжение органической жизни возможно только через добавление субъекта, еще не объективированного на предшествующих ступенях развития. Однако само добавление этого нового субъекта имеет свое основание в сущности Абсолюта, к противопоставлению которого каждому отдельному, конечному производству в конечном счете восходит весь процесс физического развития и та «двойственность принципов», которая заключается в постоянной приостановке природы между производительностью и продуктом. Таким образом, абсолют является фактической основой шеллинговской концепции нисхождения; но этот реалистический базовый принцип является также источником витализма, всего реализма в натурфилософии.
Поскольку природа должна представлять абсолют, ее интересуют только виды, а не индивиды; последние – лишь средство для нее, в то время как последняя – ее цель; более того, индивид даже «противен» ей. Там, где понятие предстает как сущность мира, отдельные вещи, естественно, должны потерять всякую ценность.
Здесь уместно сделать замечание относительно философии тождества Шеллинга, которое призвано предотвратить очевидное недоразумение. Взгляд на сосуществование субъективного и объективного, идеального и реального, присутствующее во всех без исключения вещах, постоянное соединение обоих моментов, а также постепенное возрастание субъекта, происходящее в природе, достигающее своей вершины в рождении человека, с которым начинается новый мир, а именно мир духа, – этот взгляд легко мог бы создать видимость более глубокого сходства с тем современным взглядом, распространяющим на всю природу непрерывное сосуществование психического и механического, которое, как показал опыт, существует в животном организме, и приписывающим примитивным элементам, составляющим материю, некую внутренность, аналогии сознания или психических качеств, совокупность которых в человеческом мозгу приводит к явлению духовной жизни. Однако эта видимость сразу же исчезает, если учесть, что в творчестве Шеллинга субъективное предстает как нечто вне материи, приближающееся к ней извне, т. е. из абсолюта. Отсюда становится ясно, что субъективное в понимании Шеллинга и психическое в современном представлении – отнюдь не взаимозаменяемые понятия, и что поэтому нельзя вообще предполагать соответствия между натурфилософией и гилозоизмом [способность к самодвижению есть способность материи – wp], отстаиваемым современными натуралистами. Такая интерпретация, которая, несомненно, допустима в «Бруно» и особенно в «Спинозе», потеряла бы всякое обоснование, если бы применялась к философии тождества Шеллинга, и должна быть решительно отвергнута здесь.
Хотя в «Бруно» Шеллинга АнсельмО сказал: «все истинное бытие – только в вечных понятиях или в идеях вещей», он никогда не был настроен на полное устранение реального, материи или алогичного бытия, противостоящего идее; он всегда допускал пассивную сферу существования, контр-образный мир, в котором выражаются и реализуются идеальные модели, и поэтому также, особенно в поздний период, хотел, чтобы вопрос о quod [почему – wp] был отделен от вопроса о quid [что – wp] вещей. Здесь кроется фундаментальное различие между ним и его преемником Гегелем, с панлогизмом которого реализм Шеллинга все еще выглядит умеренным. В философии Гегеля реалистическая концепция проявляется настолько ощутимо, что не может быть и речи о том, чтобы доказать ее, а только о том, чтобы охарактеризовать ее особенности. Гегель – реалист kat exochen [абсолютно – wp]; он не знает иной реальности, кроме реальности понятия, он делает даже индивидуальное, чувственно индивидуальное, общим понятием на основе всеобщности слова.
«Когда я говорю: индивид, этот индивид, здесь и теперь, – это все общие понятия; все и каждый есть индивид, это, пусть даже чувственное, здесь и теперь».
Гегель развил эту редукцию индивида к понятию в первой главе «Феноменологии духа», посвященной «Чувственной определенности, или Тому и этому».
«Как общее, – поясняет он здесь, – мы выражаем и чувственное; то, что мы говорим, – это есть это, т. е. общее это, или: это есть, т. е. бытие вообще. Мы, конечно, не представляем общее это, или бытие вообще, но выражаем общее; или же мы говорим совсем не так, как подразумеваем в чувственной определенности. Но язык, как мы видим, тем правдивее; в нем мы сами прямо опровергаем наше мнение, а так как общее есть истина чувственной определенности, а язык только выражает эту истину, то вовсе невозможно, чтобы мы когда-либо могли сказать о чувственном существе то, что мы имеем в виду.»
«Если о чем-то не говорится ничего более, – говорится в заключение, – чем то, что это реальная вещь, внешний объект, то это выражается только как самое общее, и таким образом выражается скорее его равенство со всем, чем его различие. Если я говорю „единая вещь“, я говорю это скорее как самое общее, ибо все есть единая вещь; и точно так же эта вещь есть все, что нужно. Если я описываю ее более точно, как этот лист бумаги, то все и каждый лист бумаги – это этот лист бумаги, и я сказал только общее. Но если я хочу помочь говорящему, которое имеет божественную природу превращать мнение непосредственно в нечто другое и тем самым не давать ему высказаться, то, указывая на этот лист бумаги, я испытываю, в чем, собственно, состоит истина чувственной уверенности; я указываю на него как на здесь, которое является здесь другим здесь или само по себе простой комбинацией многих здесь, то есть общим, я воспринимаю его таким, каково оно есть на самом деле, и вместо того, чтобы знать непосредственное, я воспринимаю».
Таким образом, непосредственная определенность, желая взять «это», сама собой переходит в восприятие, которое берет то, что «есть существующее», как общее. Итак, в философии Гегеля на самом деле есть только общее, только понятия; поскольку он устанавливает принцип, «что мысль есть именно это, что она есть сама и ее другое, что она выходит за пределы этого и что ничто не ускользает от нее», haecceitas [этакость – wp] Дунса Скота возводится им в новую честь.
Но, несмотря на все заверения в том, что понятие охватывает всю реальность в себе и что вне понятия ничего не существует, для Гегеля все же остается остаток реальности, который не может быть устранен и который ускользает от идеальной концепции. Ведь даже если само бытие превратить в идею или понятие, это абстрактное бытие, которое есть не что иное, как понятие бытия вообще, никогда не сможет исчерпать реальность, раскрывающуюся в индивидуальном чувственном восприятии. Поэтому здесь следует признать неконцептуальную реальность. Но поскольку, с другой стороны, в качестве реальной предполагалась только понятийная, Гегель вынужден различать двойную реальность, истинную и просто иллюзорную. Последняя приписывается реальным вещам постольку, поскольку они не совпадают [übereinstimmen – wp] с идеей.
«Та реальность, которая не соответствует понятию, есть просто видимость, субъективное, случайное, произвольное, которое не есть истина». Ведь «нечто обладает истиной лишь постольку, поскольку оно есть идея». Но можно заблудиться, если предположить, что для Гегеля эта иллюзорная реальность возникает только в рассудке, который не способен отразить истинную и полную реальность вещей; что поэтому появление сущности возможно только для сознания, которому сущность представляется. Противопоставление сущности и видимости является скорее фундаментальным, основанным на трансцендентной реальности, на вещи-в-себе, и существовало задолго до возникновения феномена сознания с возвращением идеи из ее экстернализации. Независимо от всякого воображения, «бытие есть отчасти видимость и лишь отчасти реальность». Поэтому для Гегеля «субъективное» существует без субъекта; он формирует концепцию объективной «видимости». Эта концепция становится для него неизбежной необходимостью, поскольку, с одной стороны, его крайний реализм не позволяет ему признать абсолютную реальность отдельных экзистенций, вещей со стороны «осязаемости и чувственной внешности», а с другой стороны, его объективизм не позволяет ему учитывать несоответствие между объектом и понятием для сознания, не воспринимающего реальность в чистом и незамутненном виде. Однако было бы серьезным заблуждением отождествлять с этим объективным появлением у Гегеля понятие явления в том виде, в каком оно знакомо современному естествознанию и позитивизму. Естествознание и позитивная философия также говорят о явлениях или видимостях, не критически осмысливая субъективность знания; но они решительно отвергли бы предположение, что мы имеем дело с чем-то «истинным», «произвольным», «неистинным» в отношении таких видимостей; явления рассматриваются здесь как нечто вполне реальное, и только само слово может породить обман в отношении смысла его использования. С другой стороны, понятие «объективной видимости» в том же смысле, что и у Гегеля, встречается у многих современных философов-идеалистов, особенно в «Философии бессознательного», автор которой также утверждает тождество последней с только что отвергнутым современным понятием явления, чтобы создать видимость соответствия между своей метафизикой и научной концепцией.
Но даже если в философии Гегеля дихотомия между реальностью понятия и реальностью индивида не может быть устранена или преодолена и поэтому она вынуждена прибегать к понятию объективной видимости, чтобы отстоять свой принцип единственной реальности идеи, мы не должны забывать, что это dissidium [Grundform – wp] имеет место только в пределах природного мира, тогда как в более высокой сфере сознательной жизни оно исчезает. Природный индивид умирает сам по себе, потому что «как индивид он есть конечное существование».
«Его неадекватность всеобщему есть его изначальная болезнь и врожденный зародыш смерти».
Соответственно, естественная смерть, жертвой которой становится индивид, предстает как «отмена формальной оппозиции непосредственной индивидуальности и всеобщей индивидуальности», как «достигнутое тождество со всеобщим», но только со своей абстрактной, негативной стороны. Позитивная сторона, заключающаяся не в упразднении конечного, а в позиционировании или реализации понятия, напротив, представлена духом, идеей в возвращении от природы к себе.
«В идее жизни субъективность есть понятие, оно есть, таким образом, само по себе абсолютное бытие-в-себе действительности и конкретная всеобщность; через упразднение непосредственности своей действительности, которая была показана, оно слилось с самим собой; конечное бытие-вне-себя природы было упразднено, и понятие, которое есть только в себе в нем, стало таким образом для себя. – Природа, таким образом, перешла в свою истину, в субъективность понятия, объективность которого сама есть упраздненная непосредственность конкретности, конкретная всеобщность, так что устанавливается понятие, которое имеет соответствующую ему реальность, понятие для своего существования, – дух.»
Конкретное понятие» обязательно требует «реальной индивидуальности в себе и для себя», которая фактически присоединяется к нему, как только самосознание имеет в качестве своего объекта чистую категорию или является категорией, осознавшей себя. Индивидуальный, то есть конечный, характер сознательной индивидуальности не распространяется, таким образом, на все ее акты, а находит свой предел в деятельности разума, за которым противопоставление общего и индивидуального теряет свою силу. Эта точка зрения нашла классическое изложение в трактате Людвига Фейербаха «О рациональности уна, универсали, инфинита», которому, в соответствии с духом Гегеля, удается придать ей большую степень иллюзорности. – Как бы то ни было, учение о конкретном понятии и реальной индивидуальности само по себе имеет для гегелевской философии совершенно особое значение, поскольку благодаря ему абсолют как идея предстает полностью реализованным если не во всех отдельных моментах диалектического процесса, то, по крайней мере, в его результате, в духе. Только в духе, таким образом, находится истина; природа, «внешний дух, в своем существовании есть не что иное, как вечная экстернализация своего существования и движение, производящее предмет».
В последнее время философия Гегеля неоднократно ассоциировалась с биологическими теориями развития, так что Гегель в определенной степени фигурирует и как представитель теории происхождения. На этом стоит остановиться подробнее, поскольку позиция философа в отношении учения о происхождении характерна для его мировоззрения и показывает несовместимость его реалистического основного взгляда с признанием реальности природных фактов. Ибо, хотя Гегель явно учит эволюции понятий, которые находят свое выражение в органической природе, являющейся следствием системы, он, тем не менее, решительно отвергает мнение, что эта эволюция, это возникновение одного понятия или типа из другого, может стать объектом чувственного восприятия. Для
«Понятие по своей природе есть отчасти только внутреннее понятие, отчасти существующее только как живой индивид; этим одним, следовательно, ограничивается существующая метаморфоза».
«Неумелой концепцией старой и новейшей натурфилософии было, – продолжает Гегель, – рассматривать развитие и переход природной формы и сферы в более высокую как внешнее-реальное производство, которое, однако, чтобы сделать его более ясным, было отброшено во тьму прошлого. Именно внешняя сторона природы заставляет различия распадаться и позволяет им выглядеть как безразличные существования: диалектическое понятие, которое ведет этапы вперед, – это внутренность того же самого. Такие туманные, по существу чувственные представления, как, в частности, так называемое возникновение, например, растений и животных из воды, а затем возникновение более развитых животных организаций из низших и т. д., должны рассматриваться путем мысленного наблюдения».
Таким образом, по Гегелю, развитие форм жизни происходит отдельно друг от друга в сфере понятия, но не во внешней, видимой природе, поэтому филогенез [филогенетическое развитие живых существ – wp] никогда не может стать предметом естественной науки, как, например, онтогенез [развитие индивида от яйцевой клетки до половозрелого состояния – wp]. Мы должны иметь это в виду, когда говорим о теории развития у Гегеля, и быть осторожными, чтобы не отождествлять его взгляды с взглядами Шеллинга и Окена без лишних слов.
Контраст между реалистическим подходом Гегеля и современным естествознанием нигде так не бросается в глаза, как в случае, когда он
«бесконечное богатство и многообразие форм и, кроме того, случайность, которая вмешивается во внешнее устройство природных образований»,
на «бессилие природы», которая способна поддерживать понятийные определения только в абстракции и подвергает реализацию конкретного внешней детерминированности: ибо
«Следы определения понятий, правда, будут прослеживаться в самом конкретном, но этим они не исчерпываются».
Поэтому то, что сегодня следует считать высшей силой и совершенством природы, а именно способность производить индивидов в самом щедром изобилии и вызывать в них бесчисленные различия, возможно лишь при постоянном, хотя и медленном изменении условий существования, в постоянно меняющейся форме борьбы за существование, становится возможным дальнейшее существование органической жизни – с точки зрения гегелевского идеализма, это рассматривается как «бессилие природы удержать понятие в его реализации» и объясняется «противоречивостью идеи, поскольку как природа она является внешней по отношению к себе». Природа как идея в своей инаковости действительно божественна сама по себе, в идее, но как она есть, ее бытие не соответствует ее понятию; скорее, она есть «неразрешенное противоречие». Поэтому его отдельные образования не настолько пронизаны и одухотворены понятием, чтобы полностью предстать как его проявление; скорее, они остаются отчасти внешними и случайными по отношению к понятию как внутреннему, и поэтому природный мир, поскольку только непосредственное единство сущности и существования, внутреннего и внешнего, есть реальность, предстает как мир видимости, который с тем же успехом мог бы не существовать в той конкретной форме, в которой он существует: ведь только существование, единое с понятием, обладает внутренней необходимостью, истиной и реальностью. – В философии Гегеля достигнута кульминация [climax – wp] реалистического подхода. Положение о том, что понятия как таковые имеют реальное существование, переросло в доктрину о том, что только концептуальное реально в высшем смысле.
Философия, которая объявляет реальным индивидуальный природный объект и признает реальность понятий лишь постольку, поскольку они являются атрибутами или предикатами индивидуальных природных объектов, должна, конечно, рассматриваться не как следствие, а скорее как полное отрицание принципа гегелевской философии. Так обстоит дело с натуралистической и чувственной экзистенциальной философией, которую Фейербах противопоставил прежней метафизике под названием антропология и которую изначально следует понимать как реакцию против абсолютного идеализма. Первоначально Фейербах был последователем Гегеля и отстаивал всеобщий разум, в котором человек, индивид, «имеет свою долю», но который не может быть ограничен рамками индивидуального мозга, поэтому «между человеком как индивидом и духом существует мировое различие». Однако вскоре он счел это различие иллюзорным, сделал человека, in specie [в деталях – wp] мозг, самим мыслителем и теперь вступил в решительную оппозицию к философии Гегеля, чья неспособность произвести полноту конкретного бытия, природы, из мышления или абстрактного бытия, уже стала ему ясна ранее. Фейербах оставался гегельянцем только по форме, особенно в употреблении некоторых терминов, и когда он поэтому иногда называет свою философию «истиной» гегелевской, нужно просто вспомнить об «истине» природы у Гегеля, которая состоит в том, что природа сама по себе не является истиной.
Антропология столь же принципиально номиналистична, сколь реалистична философия Гегеля: она возводит чувственность в критерий истины, а различие между чувственным и мышлением, говоря словами Гегеля, состоит именно в том, «что детерминация последнего есть единичность», только единичное, индивидуальное, «невыразимое» бытие может считаться реальным; мышление, основанное на восприятии, причем именно на чувственном, а не на якобы интеллектуальном, ставит индивидуальность в качестве «сущности реальности». Понятие, которое само по себе имеет характер всеобщности, становится, таким образом, в отличие от индивидуальных вещей, простой абстракцией, существующей только в мыслящем субъекте.
Для правильного понимания антропологии необходимо всегда помнить о ее фактическом происхождении в философии Гегеля и понимать ее как оппозицию своеобразному идеализму последнего. Эта философия чувственности имела своей необходимой предпосылкой гегелевский понятийный абсолютизм; она была бы невозможна, если бы гегелевская философия заняла место философии Канта. Поэтому, как хорошо объяснил Вейгельт, его чувственность, конечно, побеждает абсолютную идею и самодвижущиеся понятия, но не выдерживает, когда против нее выдвигаются рассуждения «Критики чистого разума». По сравнению с гегелевским смешением мышления и бытия, понятия и реальности антропология, несомненно, должна рассматриваться как критическая реформа, хотя сама она представляется объективистской в связи с гораздо более масштабным отделением субъективных факторов познания от внутренне существующего объекта, которое предпринял Кант. По большей части ее тезисы можно представить в правильном свете и оценить по достоинству, лишь связав их с соответствующими принципами гегелевской философии. Например, учение Фейербаха о том, что пространство и время – «не простые формы видимости», а «определения сущности, формы разума, законы бытия, а также мышления», предпочтительно только как протест против взглядов Гегеля, для которого эти формы чувственности были вообще ничем и который прямо ожидал, что физики сведут пространство и время к нескольким «невесомым [imponderable – wp] субстанциям» (?) рядом с теплом, светом и т. д. Это также объясняет, как исторически со времен гегелевской философии развивалась идея времени и пространства. Это также исторически объясняет, исходя из предпосылок антропологии, почему именно номиналистический момент вышел на первый план. Едва ли какой-нибудь философ новейшего времени уделял больше внимания решению вопроса об отношении общего или понятия к индивидуальному, вида к индивиду, чем Фейербах, который без стеснения заявлял,
«что вся история философии фактически вращается вокруг этого вопроса, что спор между стоиками и эпикурейцами, платониками и аристотелианцами, скептиками и догматиками в античной философии, номиналистами и реалистами в средние века, идеалистами и реалистами или эмпириками в более поздние времена сводится только к этому вопросу».
Действительно, даже теология должна стоять или падать в зависимости от решения этого вопроса в том или ином смысле, поскольку, по словам Фейербаха, «отношение Бога к миру сводится лишь к отношению родового понятия к индивидуальному».
Очевидно, что в таких разных дианоиологических [мыслительных – wp] условиях концепция системы вещей должна была принять для антропологии совершенно иную форму, чем у Гегеля. Природа, которая в философии Гегеля создавала печальное псевдобытие, теперь вновь обрела свою честь; она была уже не существом, носимым идеей, а автономным, независимым существом; она двигалась собственными силами, а не по милости понятия, в диалектическом самодвижении которого она участвовала. Продвижение от природы к духу должно было рассматриваться уже не как отказ идеи от своего внешнего воплощения, а как возникновение духа из природы. А в самой природе всякое развитие, если таковое существовало, должно было происходить как результат действия сил, присущих природным существам. Поэтому не приходится сомневаться, что решение, которое Дарвин дал проблеме происхождения форм жизни, полностью соответствует духу антропологии, хотя сама антропология и не занималась этой проблемой в деталях. Более того, на основании отдельных высказываний Фейербаха можно было бы даже показать, что он, кажется, догадывался о тех истинах, которые благодаря подробному развитию и обоснованию Дарвина стали неотъемлемым достоянием науки. Так, он говорит о внешней целенаправленности, вооружении и защитных средствах организмов:
«Каждое существо, каждый орган защищены только от определенных опасностей, определенных влияний, и эта защита едина с детерминированностью этого существа, этого органа, едина с его существованием, так что без этой защиты он вообще не мог бы существовать. То, что должно существовать, должно также иметь средства существования, то, что должно жить и хочет жить, должно также быть способно утверждать и защищать свою жизнь, то есть от вражеских атак. Жизнь – это борьба, война; поэтому оружие как средство жизнеобеспечения дается непосредственно вместе с жизнью».
То, что Фейербах выбросил здесь в общих чертах и как простое утверждение, которое поэтому остается бесполезным для научного объяснения природы, было доказано Дарвином в ряде частных случаев и тем самым поднято на уровень реального знания, а именно идея о том, что так называемая целесообразность не является продуктом разумного процесса, производства и сохранения определенных природных образований, а следствием общей физической причинности, что орудия и средства защиты не обусловлены преднамеренным существованием организма, а наоборот, что его существование обусловлено средствами защиты, возникающими из механических причин. С помощью идеи «развития» английскому натуралисту удалось доказать произвольно предполагавшуюся ранее возможность механического объяснения целенаправленного и сделать так, чтобы и гармонизация жизненных функций организма, и его приспособление [адаптация – wp] к внешним условиям существования представлялись уже не делом непонятной случайности, а необходимым конечным результатом длительного, постепенно накапливающегося [accumulating – wp] природного процесса.