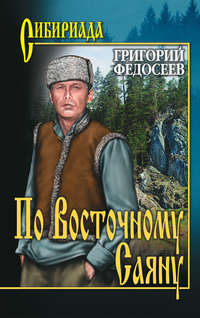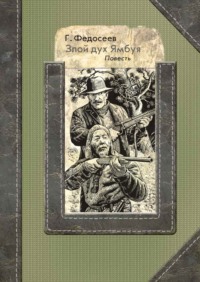Полная версия
Тропою испытаний. Смерть меня подождет
Рано утром мы прибыли на аэродром.
Самолет загружен. Бойка и Кучум уже заняли место и с нетерпением ждут отлета. На лицах провожающих – нескрываемая зависть, а в мыслях – тревога за нашу судьбу. Мы жмем протянутые руки, выслушиваем добрые пожелания и наконец расстаемся.
Самолет летит со скоростью трехсот километров в час. Под нами проплывает Зейская долина. Постепенно надвигается, делаясь все более величественным, Становой.
Вскоре в пустынной дали предгорья показалась одинокая струйка дыма на берегу широкой реки. Самолет, теряя скорость, снизился, обошел ледяную площадку кругом, смело приземлился.
На косе стояла палатка проводников, лениво догорал костер, но ни хозяев, ни оленей не было. Мы разгрузили машину, распрощались с экипажем и стали устраивать себе жилье.
IIВстреча с проводником. Нарты уходят в глубь гор. Улукиткан вспоминает былое. «У, проклятый, кушай больше не хочешь?» С наледью не шути! Худое место
Палатка готова, а проводников все нет. Неожиданно из тайги на косу выскочила белая собачонка. Увидев нас, она в недоуменье остановилась. К ней тотчас бросился Кучум. Ощетинившись, собаки стали обнюхивать друг друга, видимо пытаясь угадать, кто откуда и куда идет, сытый или голодный, у зверя был или бродячий. Заглядывали друг другу в глаза, определяя силу противника и характер. При таких встречах, несомненно, собаки что-то узнают друг о друге, в случае необходимости затевают драку. У Кучума с белой собачкой, по-видимому, не возникло спорных вопросов, они мирно разошлись.
Следом за собачонкой появился и человек. Он молча прошел мимо нас к своей палатке, снял с плеча длинную бердану, стряхнул с дохи снег. Затем достал из-за пазухи лепешку, разломил ее на несколько кусков и бросил белой собаке.
– Она из оленьего стада Ироканского колхоза, – видно, зверя гоняла, далеко ушла, торопится обратно, – сказал он и, откашлявшись, уверенной походкой направился к нам. – Здравствуйте… Я думал, напрасно мы тут живем – так долго вы не приезжали.
Это был Улукиткан, наш проводник из эвенкийского колхоза «Ударник».
Он стоял перед нами, старый, маленький, какой-то весь открытый, готовый к услугам. Его темно-серые глаза, прятавшиеся за узкими разрезами век и, вероятно, видевшие много за долгие годы жизни, теплились добротой.
Что-то подкупающее было в его манере держаться перед незнакомыми людьми и в том невозмутимом спокойствии, с каким он нас встретил. От него веяло мудростью долгой и нелегко прожитой жизни, глубокой стариной, темными таежными лесами.
Улукиткан был одет в старенькую, изрядно поношенную доху, задубевшую от ветра, снега и костров. На голове у него копной лежала шапка-ушанка, сшитая из кабарожьих лап. На ногах – старенькие, полуизношенные унты со свежими заплатками. Поверх дошки через плечо висела на тонком ремешке кожаная сумочка с патронами и привязанным к ней старинным кресалом.
В глухих таежных местах есть еще старики, которые в прошлом, до революции, испытали немало бедствий, голод и нищету и научились безропотно переносить невзгоды. В своей памяти они хранят многое, что не записано ни в какой истории. В них живет необыкновенно чистая, доверчивая любовь к людям, к животным, к природе.
Именно таким и был Улукиткан.
Старость много потрудилась над ним. Она сгорбила ему спину, затянула лицо сеткой морщин, пальцы на руках изувечила подагрой. На его голове оставил следы и медведь, исполосовав когтями затылок. Говорил Улукиткан медленно, надтреснутым голосом, плохо выговаривая русские слова.
С первой встречи этот необыкновенный старик подкупил нас своей простотой и доброй улыбкой. Все как-то сразу прониклись к нему уважением.
Мы пригласили его выпить с нами чаю. Войдя в палатку, старик снял дошку, бережно сложил ее вдвое и, усевшись на нее возле печки, стал отогревать руки.
– Пошто так задержались? – спросил он с явным беспокойством.
– Погоды долго не было летной, да и хлопот много… Раньше не могли никак.
– Плохо. Снег размяк, вода пойдет поверх льда, как ехать будем?
– А ты один? – спросил я его, пока Василий Николаевич разливал по кружкам чай.
– Товарищ есть. Николай Лиханов. Он оленей пошел смотреть, скоро придет. Тоже старик. Мы с ним постоянно вместе тайга ходим.
– Как старик? – удивился я. – Мы же просили Колесова, вашего председателя, выделить тебе в помощь молодого парня. Не нашлось, что ли?
– Колхоз люди много, однако молодой теперь все ученый стал, по книге тайгу учит, а оленью узду не умеет сделать, след зверя теряет… Зато клуб дорога хорошо знает! – ответил сердито Улукиткан.
– Вам, старикам, ведь тяжело будет работать, – возразил я.
– Ничего, нам привычно, да я и не хвораю никогда. Когда время придет – сразу эскери[4] заберет. А Николай в тайге лучше молодого.
– Ну хорошо, увидим. А почему у тебя эвенкийское имя, а у Лиханова русское? – продолжал я разговор.
– У него мать была русская, она ему свое имя давала.
За палаткой послышались шаги, кто-то постучал, сбивая с ног снег, кашлянул и ввалился внутрь.
– Шибко много людей стало у нас на косе… Здравствуйте! – сказал он, снимая шапку.
– Проходите, садитесь, – предложил Василий Николаевич, освобождая место.
Это был высокий, крепкий старик, на вид лет пятидесяти, с плоским, скуластым, почти круглым лицом, одетый по-эвенкийски: в дошку, лосевые штаны и лапчатые унты. Тугая и дочерна смуглая кожа только на лбу у него была пересечена морщинами. Толстые, вывернутые наружу губы были опушены мелкой седой порослью. Жиденькая бороденка из считаных волос в беспорядке торчала по краешку подбородка. Лицо простое, добродушное, на нем, как в зеркале, отражался покладистый характер старика.
Это и был Николай Федорович Лиханов, наш второй проводник. Его черные глаза, подвижные, как ртуть, в одно мгновение осмотрели нас всех. Он поздоровался со всеми за руку и тоже уселся возле печки.
– Куда кочевать будем? – спросил Лиханов.
– В верховье Маи.
– Не поздно, как думаешь? Худой время: наледь скоро должна пойти. Оленям худо будет тащить груженые нарты по воде. Шибко запоздал, боязно трогаться – как бы не пропал где.
– Мы должны ехать, – твердо сказал я. – Если не пробьемся на нартах, бросим часть груза в лабазе и уйдем вьючно. Если вообще на оленях уже не пройти, уйдем с котомками на лыжах. Знаем, что не время сейчас путешествовать, но что делать… Надо.
– Ничего, помаленьку доедем, – вмешался в разговор Улукиткан. – Олени свежие, люди мало-мало здоровые. Если наледей бояться, то от пурги помирать надо…
Гости засиделись до полуночи. Нас интересовало все в этом загадочном крае: какой лес, доступны ли летом реки для брода, есть ли в горах звери, где лежат проходы? Старики отвечали охотно. Выяснилось, что март у местных жителей считается месяцем больших снегопадов, частых буранов и затяжных наледей, покрывающих в это время русла рек. Но проводников больше всего беспокоил Джугдырский хребет: трудно будет с гружеными нартами подняться на него из-за глубокого снега.
Кое-что мы узнали от них о Становом хребте, который нам придется посетить после обследования верховьев Маи. Оказывается, в восточной части этого хребта местные эвенки не бывают, и только иногда у подножия гор ненадолго останавливаются пастухи с кочующими стадами колхозных оленей. Скалы, густые стланики сделали горы недоступными для каравана. Охотники при необходимости переваливают через хребет далеко западнее, пользуясь другими проходами. Сам же Улукиткан пересекал восточную часть хребта очень давно, примерно в восьмидесятых годах прошлого столетия, еще будучи мальчиком, и не помнит, где именно.
– Человек мало живет, но постоянно меняется: то маленький, то большой, то молодой, то старый, а скалы и горы долго живут и всегда одинаковые. Когда Становой пойдем, я буду кругом ходить, хорошо смотреть, примета искать, потом вспомню, где лежит проход, – говорит Улукиткан монотонно, но так убедительно, что мы невольно проникаемся уверенностью: проход будет найден.
Из разговора с проводниками мы уже примерно представляем себе район стыка трех хребтов, куда так нетерпеливо стремимся попасть. Нас ждет большой безлюдный край, густо изрезанный дикими ущельями, заросший непроходимым стлаником, с бурными речками. Там нет ни троп, ни дорог и мало проходов. А мы действительно запоздали. Теперь придется встретиться со множеством препятствий на пути. Будут наледи, пурга, лютый мороз… Словом, нам предстоит принять «боевое крещение», испытать на себе все прелести путешествия по Приохотскому краю в весеннее ненастье.
– Если сил хватит добраться до верховья Маи, тогда хорошо, там хуже не будет, – сказал Улукиткан подбадривающим тоном, выходя из палатки.
Была уже глубокая ночь. На землю падали пушистые хлопья снега. Порывы холодного ветра подхватывали их, кружили и снова бросали на землю. В палатке наш радист Геннадий монотонно стучал ключом, заканчивая передачу радиограмм.
Я лег, но долго не мог уснуть. Тревожно слушать, как злится вьюга, как стонет тайга и воет ветер по старым дуплам. И что-то чарующее есть в этих грозных звуках. Трудно представить себе горы, тайгу без бури, грозы, грохота обвалов, без шума водопадов, без звериного рева и гусиного крика в небе. Именно эти звуки подчеркивают мощь, красоту и дикость окружающей природы.
«Что нас ждет впереди?» – думал я, вслушиваясь в завывания ветра.
Утром Василий Николаевич проснулся раньше всех и взялся за приготовление завтрака.
Встали и мы с Геннадием.
Погода продолжала бесноваться. Гнулись ели, цепляясь кронами за корявые сучья тополей. Свистел ветер, унося в пространство потоки снежной пыли. Ничего вокруг не было видно.
Что делать? Ехать или дожидаться хорошей погоды?
В палатку просунулась голова Улукиткана:
– Худой погода, холодно.
– Как же быть?
– Николай ушел за оленями. Собирайтесь. Лучше в пургу ехать, чем по наледи. Так говорили еще наши старики. – И он, не заходя в палатку, исчез.
Мы быстро расправились с завтраком, упаковали постели, вещи и, как только пригнали оленей, сняли палатку. Все было готово, чтобы тронуться в путь.
Улукиткан вывел ездовую упряжку вперед, привязал к ней свою связку оленей и еще раз опытным взглядом окинул нарты.
С этого дня по молчаливому сговору мы признали его старшим среди нас.
…Мы пересекли неширокую полосу берегового леса, вышли на марь – безлесную, заболоченную низину, покрытую кочками, – и взяли направление на северо-восток. Впереди на лыжах Улукиткан. Он ведет оленей. Его сгорбленная фигура часто теряется за мутной завесой бурана.
Я позади всех. К моим нартам привязаны Бойка и Кучум. Они еще не привыкли к оленям, и нам приходилось держать их на привязи.
Уныло скрипели полозья, оставляя на затвердевшем снегу глубокий след тяжелых нарт. Горбились от натуги спины оленей.
Как хорошо, что человек приручил оленей. Без этого невозможна была бы жизнь людей в этом суровом и диком крае. Олень не только возит, он кормит, одевает, обувает северянина. Можно наверняка сказать, что нет вкуснее оленьего мяса и нет ничего легче и теплее одежды, сшитой из шкуры этого животного.
В отличие от собрата – благородного оленя – северный олень некрасив, приземист. У него слишком вытянутое туловище, короткие ноги, голова почти всегда опущена. Хотя рога и достигают иногда огромных размеров, они отнюдь не украшают его. Северный олень рожден суровой тундрой, и когда глядишь на него, то невольно перед глазами встают необозримые снежные равнины с низкорослой растительностью, блюдцами стылых озер, полярные ночи и затяжные бураны с их смертоносной стужей.
Северный олень отлично приспособлен к условиям скупой и холодной природы. Пищей ему служат едва заметные растения: ягель, чихрица и другие лишайники, мхи. Своим тонким чутьем он улавливает запах ягеля даже под глубоким снегом. Но в первой половине лета олень охотно питается зеленью: листьями кустарников, березок, ерников.
Мы медленно продвигаемся вперед, пробиваясь сквозь непогодь. Проводники изредка перебрасываются короткими фразами, после чего обычно караван сворачивает вправо или влево.
Удивительно, как старики угадывают направление! Ведь едем мы без всякой дороги, вокруг в белесой мгле ничего не видно. Но это, пожалуй, вовсе не волновало проводников. Они все чаще покрикивали на оленей и, казалось, все увереннее прокладывали путь.
Только к концу дня метель наконец стихла и сквозь поредевшие облака показались кусочки голубого неба.
Ночевать спустились к реке. Это была первая наша остановка, и мы с удовольствием принялись за устройство лагеря: утаптывали снег, выстилали «пол» хвоей, ставили палатки. Через час в нашем полотняном домике уже дымилась печь, и, готовя ужин, возле нее суетился Мищенко.
Олени разбрелись по краю мари. Одни из них, добираясь до корма, стали разгребать сильными ногами снег, другие передвигались по кромке леса, срывая лишайники, космами свисающие с еловых веток. Ну как не удивляться приспособленности этих животных! Посмотрите, как легко они бродят по глубокому снегу. Этому способствуют необыкновенно широкие копыта. Они у северного оленя почти вдвое больше, чем у любого другого вида оленей. Во время бега копыта могут широко раздвигаться, увеличивая площадь опоры, и животное не проваливается глубоко даже в сухом, сыпучем снегу.
Вот один из крупных быков Улукиткана уже наелся ягеля и там же, в выбитой им яме, улегся отдыхать. Он не замерзнет: длинная шерсть с очень густым подшерстком служит ему надежной защитой от низкой температуры и холодных ветров.
Мои размышления неожиданно прервали собаки. Отпущенные на прогулку Бойка с Кучумом ворвались в стадо. Одно мгновенье – и я стал свидетелем, как мирно пасущиеся животные вдруг в панике бросились от них прочь. Какое незабываемое зрелище! Словно ветер, летели олени, закинув рога на спину и вытянув вперед свои длинные головы. Ноги едва касались земли, только снег вздымался брызгами во все стороны из-под копыт да густой пар, легким облаком вылетая из ноздрей, окутывал морды. Трудно представить себе более быстрое животное, нежели олень.
Из палаток выскочили люди, мы стали кричать на собак, грозиться, кто-то два раза выстрелил, и только после этого Бойка и Кучум остановились. Они вернулись в лагерь, не понимая, почему им не разрешили резвиться. Скоро успокоились и олени.
– Однако, мороз будет: много звезд на небе, все играют, – сказал Улукиткан, пролезая в нашу палатку.
За ним показался и Лиханов. Проводники уселись в дальнем углу, и Василий Николаевич стал угощать их чаем.
Старики обрадовались. Они, видно, любили побаловаться чайком. Пили медленно, громко втягивая через сжатые губы обжигающий, почти черный напиток.
– Спасибо, напился! – сказал наконец Улукиткан. – От крепкого чая, что от доброго слова, сердце мякнет.
Он стряхнул в чашку хлебные крошки, туда же вылил из блюдца недопитый чай, все перемешал и выпил.
Улукиткан интересовал меня все больше и больше. Да разве только меня! В облике этого старого эвенка было что-то неотразимо привлекательное. Особенно поражали его глаза. Серые, задумчивые, они смотрели на мир и людей удивительно ласково. И мне захотелось узнать, какой путь остался у него позади, какие удачи, разочарования шли по пятам этого восьмидесятилетнего старика и что помогло ему сохранить жизнерадостность.
Улукиткана не пришлось упрашивать. Вероятно, ему самому хотелось вспомнить далекое, очень далекое детство, годы скитаний по тайге, тропы, кочевья, родные речки, хребты, где прошла его жизнь. Он поправил под собою дошку, уселся поудобнее, и его густые брови сомкнулись в раздумье.
– Хорошо, – сказал он, поднимая голову. – Я расскажу вам, где родился, какой тропою шел, что видел в жизни, и вы догадаетесь, почему у Улукиткана стали кривые пальцы, плохо разгибается спина, много меток на голове…
С тех пор как я увидел первое солнце, много раз приходила и уходила зима, прилетали и отлетали птицы, зеленел и оголялся лес! За это время изменилась и жизнь эвенков. Плохой закон был раньше в тайге. Старики так думали: эскери дает человеку оленей, чтобы они его возили, кормили мясом, одевали в шкуры. Эскери посылает в его ловушку зверя, указывает, куда надо кочевать. Если эвенку удача была – считали, что ее послал эскери, а если горе в чум приходило – виноват хозяин. Худо тогда жили эвенки: ни чумов добрых у них не было, ни продуктов, ни снастей. Все хозяйство вела баба. Она и оленей пасла, и аргишила[5], и шкуры выделывала, дошки, штаны, унты шила, дрова припасала, обед варила, за детьми смотрела – кругом все баба. А мужик что? Только охоту знал да ругал жену, что плохо хозяйство ведет, – не торопясь рассказывал Улукиткан.
– Когда бабе приходило время рожать, она делала себе в стороне от становища маленький чум, люди не должны были слышать, как ревет баба в маленьком чуме. Такой дурной обычай был. Трудно было тогда эвенку достать кусок материи. Мать вытирала ребенка сухой мелкой трухой от старого пня, обкладывала мхом, заворачивала в кабарожью шкурку и приносила в большой чум. Если на пупке долго не сохла кровь, прикладывали серу или присыпали золой из трубки. Крикливого ребенка купали в снегу, чтобы он лучше спал. В такое время родился и я. Это было после зимы, у белки уже появились щенки, и мать назвала меня Улукиткан – значит «бельчонок».
Жили на Альгоме, по ту сторону Станового. Лето, зиму – все время кочевали по тайге.
Ворон, где труп найдет, там и живет. Мы тоже раньше так: где отец зверя убьет, там и ставили свой чум. Только не всегда нам удача была. Другой раз долго не клали мяса в котел, лепешки не было, а масло и сахар совсем не знали. Даже удачливому охотнику жить было нелегко.
Отец слышал, что у лючи[6] есть белый камень: когда положишь его в рот, он тает, как снег, язык к губам липнет, как еловая сера, а слюна делается слаще березового сока. Отец видел у купца холодный огонь и рассказывал, что его можно долго в кармане носить, а когда он станет горячим, от него зажигается трубка, береста, дрова – так о спичках тогда говорили. Один раз он возил меня далеко в соседнее становище, чтобы показать зеркальце. Чудно было: всего с ладонь, а вмещает больше чума. Смотришь в него, а видишь все, что сзади тебя делается. Сосед шибко радовался: обманул купца – за два соболя выменял зеркальце! Так было, это правда, – вздохнул Улукиткан.
– Когда я научился сгонять ножом тонкую стружку с палки и сидеть на олене не привязанным к седлу, это было время ледохода[7], мы стали кочевать к Учурской часовне[8]. Хорошо аргишить на ярмарку, когда в турсуках – сумках много соболиных и беличьих шкурок! Радовались, все думали, какой покупка делать будем, – и то надо, и другое. Не было припаса, ружья доброго, муки, котла. Все хотели купить. Пушнины хватит, два года собирали! Приехали на ярмарку. Купцы-якуты добрыми кажутся – по короткому лаю собаку от лисы сразу не отличишь. Вином угощают, хорошо разговаривают, пушнину даром не берут – все меняют: за иголку – белку, за крест – колонка, за топор – соболя, за икону – доброго оленя. Им доход, эвенку диво. И оленям хорошо, возить в тайгу нечего!
Поп ходил по всем чумам, проверял: у кого нет креста – в прорубь таскал крестить, в холодную воду толкал. Эвенки ему стали выкуп носить: кто соболя, кто лису. От хороших подарков размяк поп, как снег от майского солнца. Не таскал в воду, крестил в чуме. Мне сказал: «Тебе имя Семен». Но мать говорила: «Какой ты Семен? Ты Улукиткан!»
Разошлась пушнина за вино, за зеркальца, за бисер. Ясак[9] уплатили, богу дали маленько – он тоже любил соболей – и в тайгу ушли, когда лиственница зеленеет[10]. Ушли легко. Только обидно было. Как так получилось? Будто все купец считал правильно, белки даром не брал, а турсуки наши остались пустыми. Мать шибко ругала отца, почему ни муки, ни котла, ни куска материи не брал. Он говорил: «Ничего, бог лючи нынче обещает хороший промысел, опять приедем ярмарка, купим». Да только не так случилось. Если кремня нет, сколько ни бей кресалом по языку, огня не добудешь. Обманул бог, тайга сильнее его…
У старика оборвался голос низкой, печальной нотой. Наступила тишина. Кто-то поправил свечу. Василий Николаевич подбросил в печку дров. Из-за ближнего леса палатку осветила луна.
Рассказчик смочил горло холодным чаем, поправил под собой дошку и заговорил еще медленнее и раздумчивей. Он рассказал, что в тот год по тайге прошел страшный мор. У чумов валялись трупы оленей, погибли звери и птицы. Леса на огромном пространстве оказались опустошенными. Чтобы спастись от гибели, эвенки бежали в дальние районы. Но в пути падали последние олени, умирали люди, жирело воронье.
Родители Улукиткана со всей семьей уходили за Становой. От стариков они слышали, что за хребтом есть река Эникан[11], богатая рыбой и зверем. Нужно было перевалить через большие горы. Но как найти перевал? Все проходы завалены россыпями, сдавлены скалами и крепко заплетены стлаником. Шли наугад, питались травой, корнями.
И тогда наступило самое страшное. Отец заболел и остался на реке Мулам, где пал последний олень. Семья ушла, не дождавшись развязки. Старику дали небольшой кусок самула[12], половину сыромятной узды от павшего оленя да на три дня дров для костра. С отцом была старая собака. Что сталось с ними, никто не узнал. На второй день на поляне, где оставили больного отца, уже не дымился костер. Не догнала семью и собака. А Улукиткан с матерью и сестрой после долгих поисков все же нашли перевал.
– Тогда только я и переходил Становой, это было шибко давно, – продолжал рассказывать Улукиткан, напрягая свою память. – Когда мы вышли на хребет, сохатый терял жир[13]. Там мы нашли много мангесун[14], хорошо кушали. Только это и помню, а где лежал перевал, совсем забыл. Не думал остаться живым, смерть так держала меня. – И он, растопырив руки, словно коршун крылья, впился костлявыми пальцами в свои сухие бока. – Так крепко! Она хотела меня кончать, а я не хотел, ходил дальше. Спустились мы к Эникану – увидели след кабарги, сделали там балаган и начали опять жить…
Старик заметно уставал. Голос его все чаще обрывался, и тогда он погружался в глубокое раздумье. Но, передохнув, он вел свой рассказ дальше.
Горе, перенесенное эвенкийской семьей через Становой, еще долго продолжало жить рядом с нею. Не было оленей, одежды, припасов, даже куска ремня, из которого можно было бы сделать тетиву для лука-самострела. Это была трудная борьба за жизнь, за кусок мяса и шкуру. В лесу появились кабарожьи ловушки, плашки и пасти[15] на зайцев. В реке семья добывала рыбу. Но Улукиткан был еще слишком молод, чтобы противостоять нужде. Он не выдержал и ушел с семьей в батраки к кулаку Сафронову. А стадо оленей Сафронова занимало тогда все верховье Маи с ее притоками Чайдах, Кукур и Кунь-Маньё.
– Однажды на Большом Чайдахе, – продолжал старик после очередной паузы, – я нашел след, долго смотрел и думал: «Это какой люди тут ходи? Раньше такой след не видел». Мать сказала: «Тут лючи был, его носит такой большой олочи[16], тяжелый, как зимняя котомка». Через день лючи пришел в наш чум с проводником. «Ты что так смотришь на меня?» – спросил он. «Моя раньше лючи не видел». – «Понравился?» – «Нет, – говорю. – Твое лицо совсем другое, узкое, все равно что у лисы, нос острый, однако, шибко мерзнет зимой, а глаза круглые, как у филина. Ты, должно, плохо днем видишь. Твоя люди некрасивый».
Лючи смеялся. Он хороший был человек. Его палатка долго стояла рядом с нашим чумом. Я водил его к зеленой скале за Чайдах, там он смотрел всякий разный камень, потом сказал, что там колчедан. Лючи говорил мне, что далеко внизу есть большой стойбище, там люди золото копают, шибко звал меня туда. Да как ходить без своих оленей? Бедняку и хорошая тропа – хуже болота.
Три года пасли мы оленей. Стадо разрослось, работы было много. Но умерла мать. Тогда говорили, что пропадает только тело, а душа кочует в другой мир и там ждет: когда тела не станет, она вернется на землю и вселится в бальдымакту[17]. В те времена покойника клали в долбленое корыто и поднимали высоко на дерево. Люди не должны были оставаться жить в таких местах – нельзя беспокоить покойника. Мы с сестрой собрали оленей и ушли с ними к хозяину Сафронову. «Я больше работать не могу. Нас осталось двое… Стадо большое, силы не хватает, давай расчет», – сказал я. «Какой тебе расчет? Будем стадо считать, потом посмотрим, кто кому должен». Считали. Он говорит: «Тебе за работу надо отдать тридцать оленей. Верно?» – «Верно». – «Ты потерял моих пятьдесят; верни двадцать или отработай». – «Как так? Стадо наполовину больше стало, почему обманываешь?» – «Мы, – сказал Сафронов, – не договаривались платить в счет молодой олень».
Долго спорили, напрасно пальмой[18] воду рубили. Волк от голоду воет, а кулак – от жадности. Я говорил ему: «Твой жирный брюхо много чужой олень лежит, клади и мои». На двадцать олень давал ему расписку и ушел…