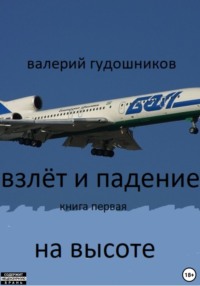Полная версия
На изгибе небес
– Жизнь исправит, – несмело возразил я.
– Да нет, пожалуй, поздно, – вздохнул он. – Ничего уже не исправить и не вернуть. И всё сначала начинать тоже поздно. Дочери сорок и она всё больше начинает приобретать худшие начала матери. Такая же брюзга под девяносто кило весом. Лицом, правда, смазливая. Как и мамка была. Я не зря тебе говорил: прежде, чем выбирать подругу жизни, посмотри на будущую тёщу. Хорошо посмотри. Муж её, зять-то мой – а я его не знал и на свадьбе не был – доченьку мою три года терпел, не выдержал, оставил квартиру и уехал на Сахалин. Иначе ему такое бы сказал, что и тебе. На тёщу, мол, смотреть надо было. Сейчас вот думаю, я бы тоже не выдержал. Да дело в том, что дома-то я почти не бывал с нашей работой. Неделя-другая – и снова на месяцы в дальние края. Это и спасало от развода.
– И… где же она теперь, ваша дочь?
– А где ей быть? В Ленинграде и живёт. Нигде не работает. Надо отдать ей должное – английский выучила в совершенстве, и занимается на дому частной практикой. Денег хватает. И бывший зять хорошим парнем оказался. Регулярно, без всяких алиментов, переводит с Сахалина приличные суммы. Да и моими деньгами они, как и прежде, распоряжаются через доверенность в банке.
Веришь, я даже своей зарплаты толком не знаю. Примерно сужу по налёту. Плюс классность сорок процентов, плюс всякие полярные надбавки. Короче, сам понимаешь. Мне много одному надо ли? Вот, – кивнул на форменный пиджак, висящий на вешалке из оленьего рога, – круглый год это и таскаю.
– Она что же, одна живёт?
– Зачем одна? С сыном. Ему – внуку моему – 13-й год пошёл. Волчонком растёт. Сказывается отсутствие мужской ласки. Видимо, и моим детям этого не хватало. А, может, и гены свою роль играют. Как-то так получилось, что всё у них от матери. Одна фигура сына моя. И только… Да и тот…
Всё-таки спирт делал своё дело. Я понимал, как нелегко заставить говорить вот такого человека, облетавшего не один десяток раз, по его выражению, весь наш земной шарик. Лётчики, несмотря на всю их внешнюю весёлость и готовность говорить о чём угодно, замыкаются обычно, когда разговор начинается об их личной жизни. Это все знают и таких тем стараются избегать. Не бывая дома месяцами, не все ведь уверены, что их женщины безгрешные. Как, в подавляющем большинстве, не любят говорить и о своих амурных похождениях в бродячей их жизни. А кто начинает об этом трепаться, бывает, что его грубо осаживают.
– Жаль, что ваш сын ушёл из авиации, – выдержав паузу, произнёс я.
– А мне не жаль! Не веришь? Небось, думаешь, как это можно не жалеть собственного сына? Нет, сначала-то жалко было. Пошёл к командиру его эскадрильи, когда он увольняться надумал. Мы как раз на базу с Новой Земли пригнали борт на тяжёлую форму. И поговорили, как лётчик с лётчиком. Нелегко мне было о сыне такую характеристику слышать. Дисциплина не на высоте, в лётное дело не вникает, летает без желания, имеет прогулы без уважительной причины. Нет желания повышать профессиональный уровень.
А, что самое неприятное, командиры самолётов отказываются летать в одной кабине с таким человеком. Вот ты взял бы к себе в экипаж такого?
– Наверное, нет, – ответил я. – Но ведь нас об этом не спрашивают. Приказом закрепляют, дают так называемый полёт на слётанность и вперёд.
– Да знаю я всё это! Приходится выполнять приказы. Но одно дело – выполнять их с охотой, совсем другое – перешагнув через себя, – вздохнул он. – Короче, расстались с ним без сожаления. Таких лётчиков, как он, в авиации быстро забывают.
– И чем же он теперь занимается?
– Сейчас уже ничем. Отзанимался, – печально улыбнулся заслуженный штурман СССР. – Сидит он. Хочешь знать, за что?
– Ну, думаю, сами скажете, если захотите сказать, – пожал я плечами. – Дело это личное.
– Да уж, личное. Вот тут оно, это личное, – постучал кулаком в грудь, – пудовой гирей давит. Иногда думаю: не свою я жизнь проживаю. Да и была ли вообще у меня жизнь, кроме работы?
Работу свою я люблю, чего нельзя сказать о моих детях и жене. Любил когда-то, с радостью летел домой, кучу подарков всегда детям и жене тащил. В общем, как и все мы. Но вот отчего-то у всех дети нормальные росли, а наши семьи сторонились, и чем старше становились – тем большая холодность какая-то между нами возникала. Сначала думал, это оттого, что редко дома бываю. Но ведь не я один такой. Искал в детях какие-то свои черты сходства внешности и характера и не находил. Кроме фигуры у сына. Чёрт! Гены, гены-то полностью материнские.
Прилетая, замечал, как меняются дети вместе с матерью. Она стала невыносимой брюзгой – это от тёщи всё. А сын – этот молчуном рос. Тестя гены передались. От него, бывало, даже после пары рюмок слова было не вытянуть. А когда и пробовал что-то говорить – тёща его всегда перебивала и он замолкал. Сама же говорила без устали. Какие-то вечные сплетни, какая-то критика соседей, знакомых и собственного мужа. Да и мужа. Могла при людях сказать, что он неумеха и неудачник и была дура, что вышла за него замуж. Каково это мужчине слышать? И чем старше – тем брюзжание прогрессировало. Что бы он ни делал, была недовольна.
Такой же и её дочь – моя жёнушка становилась. Вдобавок стала завистливой и мнительной. От безделья, пытаясь сбросить лишний вес, накупала кучу медицинских журналов. Но от этого не похудеешь, да и генетическая предрасположенность не даст, а вот вычитать там и найти кучу болячек у себя – с её мнительностью запросто. Что и произошло. И вскоре в доме открылся филиал аптеки. Помимо этого, лечила свои мнимые болячки и народными средствами. Тот же насморк. Брала мешочек раскалённой соли или разогретый камень голыш и прикладывала к переносице.
Долечилась. Что-то там воспалилось, и дело дошло до операции, после которой у неё резко обострилось обоняние. Как у кошки. Я не надоел тебе?
– Да нет, – ответил я улыбнувшись. – Я вас слушаю и, как говорят, на ус мотаю.
– Мотай, мотай, авось пригодится, и вспомнишь тогда меня. Кстати, я давно заметил, что люди более внимательно слушают речи о чём-то печальном и трагическом, чем о чём-то весёлом и хорошем. И плесни-ка по глотку, – повёл он подбородком, указывая на стаканы.
Мы выпили. По глотку. Чистого. Одним махом.
– Вот это в Антарктиде был дефицит, – тряхнул пустой стакан. – Полгода никто тебе не привезёт туда ничего. А вот в Арктике труднее было хорошую воду найти иногда, чем спирт. Без него никуда в морозы. Но на Вайгач и Новую Землю самолёты пробивались и зимой с Диксона, Амдермы и других портов, привозили расходные продукты. И этого добра, – снова потряс пустым стаканом, – хватало. И пили, бывало.
А что делать, если заметёт, как вот сейчас? Да и что стоит бочку списать на белого медведя или на трещину, если на ледовой станции, которая, по закону пакости, – хитро улыбнулся, – через склад всегда проходит. Как говорил наш начхоз Ваня Молодов: галеты-то лёгкие, они не тонут. А вот бочка со спиртом, как бомба вниз уходит на трёхкилометровую глубину. Не успеешь «Мама» сказать, а она уже на дне. Очередной подарок Нептуну. – И при этом заразительно хохотал.
– А что, медведи и спирт…
– Да нет, конечно. Спирт им без надобности, не пьют они его. Хотя были умельцы, спаивали и медведей. Они потом покоя не давали, постоянно отираясь у лагеря, и попрошайничали. А вот продукты, случалось, воровали. Склад-то изо льда сделан на СП. А по нему медведи крупные специалисты. Умудрялись залезать. Ночь же несколько месяцев, темно. Ну а если на острове – в отчётах писали – группа неустановленных лиц сорвала с петель дверь склада и похитила то-то, то-то, то-то. В результате предпринятых мер, виновные не выявлены.
Это мы так между собой шутили. А списывали опять же на медведей. Не знаю, верил ли кто на базе, что медведь может бочку со спиртом разодрать, но акты на списание всегда утверждали. Однажды с проверкой Марк Иванович Шевелёв прилетел с комиссией. Он тогда был уже в отставке, а работал главным инспектором Севморпути. Тот самый, кто первую СП-1 в 1937 году с Папаниным во главе высадил на льдину. Ну и спрашивает, какие, мол, полярники, у вас проблемы есть? Да нет особых, – отвечают, – проблем. Разве вот скоро приборы нечем будет от обледенения спасать. Медведи совсем расшалились, рвут бочки со спиртом, как носовые платки и как орехи колют. Поднимут над головой – и на камни. Никаких бочек на них не напасёшься.
Шевелёв не поверил и попросил бочку показать. И ему показали. Тот придирчиво её осмотрел, поманил начальника хозчасти пальцем, что-то прошептал ему на ухо, после чего тот втянул голову в плечи, изменился в лице и намётом выскочил с территории склада. Вскоре принёс кусок бикфордова шнура и немного взрывчатки. Её много было, лёд ей при необходимости взрывали. «Вставляй это вон в пустую бочку, поджигай, а сам на бочку садись… Мюнхгаузен. А мы посмотрим, как это её медведи так легко когтями рвут».
Конечно, полярного генерала авиации обмануть было трудно. Но вполне достаточно, чтобы обмануть ничего в этом не смыслящую женщину ревизора, которая никогда и медведя-то живого не видела. Но не раз слышала о проделках этих хитрых зверей. Да и сама читала не раз акты о списании из-за медведей.
– И что же дальше было? – смеясь, спросил я.
– А ничего не было. В акте написали: повышенный расход спирта из-за сложных метеоусловий. Марк Иваныч сам и подписал. Ханжой он никогда не был, только не любил, когда его обманывают.
Лётчики иногда уже на первом часу общения, как коллеги, переходят на «ты» независимо от возраста. Мы уже жили в гостинице почти неделю. Циклон накатил очень мощный и синоптики утверждали, что снегопад будет ещё не меньше двух дней. И потому я уверенно тыкал лётчику, в два раза меня старшему. Правда, иногда и на «вы» переходил чисто автоматически.
– Семёныч, ты в 79 году в Антарктиде не был?
– Нет. Я там раньше бывал. А потом поближе к дому перебрался, в Арктику. А что?
– Да ходили слухи, что там Ил-14 столкнулся с НЛО. Но приказа я такого не помню. Засекретили что ли? Хотя, они у нас и так все секретные, за двумя нолями. Неужели и правда, такое было?
– То был экипаж Володи Заварзина, – помолчав, ответил он. – А штурманом у него был Саня Костиков. А вот фамилии радиста и второго лётчика не помню. Саня, кстати, один жив остался. Они тогда незадолго до Нового Года приплыли впервые в Антарктиду нам на смену. Было лето, погода хорошая, морозец минус 35 всего.
А в начале января должны были выполнить десятичасовой полёт. Но упали прямо на взлёте, едва убрав шасси. Много там непонятного. Но то, что самолёт был исправен – точно. Видимость была хорошая и все, кто не занят работами был, видели его взлёт. Там все самолёты выходят провожать и встречать. Самого НЛО, похоже, никто не видел. Но так совпало, оба в одно время на взлёт пошли. И Володя, вероятно, попал в его спутную струю. Она возникла неожиданно: прямо перед самолётом мощный вихревой столб, всосавший в себя десятки тонн снега. Нечто типа смерча. Но ничего подобного там, в холодном климате, никогда не возникает.
Чего там можно было увидеть? Пытались они отвернуть, но самолёт так швырнуло, что он стал неуправляем и упал с высоты метров 30-40. А вихрь, как неожиданно возник, так же вскоре и рассосался. Вот, собственно, и всё. Это уж потом комиссия зачем-то всё засекретила. Может потому, что не могли понять причин катастрофы. И что это за вихревое образование было непонятно, но явно не природного характера. Мгновенно не возникают и не исчезают никакие смерчи.
К упавшему самолёту уже через 15 минут подъехали. Он и упал-то как-то странно, как будто в плоский штопор вошёл. Но с этой высоты в такой штопор войти невозможно. Сначала накренился резко, потеряв скорость, как будто в стену невидимую врезался, затем выправился, а потом просто блинчиком шлёпнулся на лёд. Экипаж там и похоронили. Кроме штурмана.
Вот собственно и вся история.
Мы ещё выпили по глотку, и он решительно отодвинул стакан в сторону.
– Это поправка на возраст, – пояснил. – Раньше мог и стакан сразу замахнуть после десятичасового полёта по разведке льдов. А потом спать 12 часов, не просыпаясь. Ты же знаешь, в полярных широтах кислорода мало и после этого спишь, как убитый.
Уже часа три мы сидели с ним вдвоём, в разговоре перескакивая с темы на тему, но непременно возвращались к делам житейским. Говорил в основном Семёныч. Раз запустившись, он уже не мог остановиться. Чувствовалось, что у него давно была потребность высказаться, но, вероятно, не находилось подходящего слушателя. Ребята наши наверняка уже познакомились с какими-нибудь аборигенами. Лётчики со спиртом тут всюду желанные гости. А если у хозяина чума есть симпатичные дочки, то они придут ещё не скоро.
– Иногда я сравниваю свою нынешнюю жизнь с самолётом, попавшим в обледенение после рубежа возврата. ПОС* не справляется, льда всё больше, движки на взлётном режиме. А скорость падает и уже максимальная равна минимальной. Машина вся трясётся и вот-вот перейдёт в режим сваливания. И только движением штурвала от себя, переведя на снижение и разогнав, можно удержать её в полёте. Но ведь так долго не может продолжаться. Внизу земля, а до аэродрома не дотянуть. А назад тем более не вернуться.
– Так это, на вынужденную, Семёныч, – понял я его. – Раз другого выбора в семье нет.
– На вынужденную? Вот оно как! Только как-то сложилось, что не было у меня в жизни ни запасных аэродромов, ни площадок для вынужденных посадок. Не пойдёшь же к первой встречной, да и возраст… седьмой десяток. Кому-то я нужен? Как говаривал когда-то наш шеф Валентин Аккуратов**, запасные аэродромы надо готовить заранее. И желательно не один, – улыбнулся он.
– Вы его знали? – перешёл я на «вы». – Он к нам в училище прилетал. Три часа мы его слушали в актовом зале. Очень интересно рассказывал о своей работе.
– Почему – знали? И сейчас знаю. Он мне и заслуженного с Бугаевым*** вручал. Легендарная в авиации личность. Писатель, как вот и ты, – кивнул на общую тетрадь, валявшуюся на кровати.
– Да какой я писатель? Это просто дневник. Для памяти. Пишу от нечего делать, когда вот в такие непогоды попадаем. Не всё же время спирт пить.
– Вот оно как? Значит, у тебя тяга к этому есть. Меня вот или нашего Лёшку бортмеханика писать не заставишь. А раз есть тяга – пиши. Не вечно же летать будешь. Глядишь, когда-то и книгу издашь про нашу скитальческую жизнь. Ведь народ мало чего о настоящей авиации знает. Имею в виду, авиацию без прикрас. Всё секретно у нас, а народу всё больше показывают её парадные подъезды.
– Если напишу, как есть, никто не опубликует, – возразил я ему. – А вот лётной работы могу и лишиться.
– А вот это у нас запросто может быть. Достаточно будет звонка из Москвы – и ты не лётчик. А ведь среди лётчиков есть талантливые люди. Много могли бы написать. Вот твой тёзка из Иркутска Хайрюзов пишет же что-то.
– Он мне и по отчеству тёзка. Читал я кое-что его. Но больные места нашей работы он особо не затрагивает. Как-то обтекаемо всё, мимоходом.
– А это уж такая у нас система. В ней между строк уметь читать надо.
– Ну, мы, профессионалы, прочитаем и между строк. А вот человек, не соображающий в авиации, что поймёт? И получатся, как вы говорите, подкрашенные парадные подъезды. Стоит ли так писать?
– Так не стоит, – уверенно сказал он. – А ты на будущее пиши. Только, как есть пиши, без прикрас.
– Как говорят, в стол. А какой смысл?
Семёныч помолчал, словно раздумывая, продолжать ли разговор дальше. И, что-то решив для себя, заговорил.
– Вот что я тебе скажу, дружище. Не удивляйся только. Я много полетал, не раз приходилось бывать за границей и мне есть, что сравнивать. И сравнения, надо сказать, не в нашу пользу. Всё у нас как-то зашорено, однообразно, вдвинуто в партийные рамки-ограничители типа туда – нельзя, сюда – нельзя. Та же цензура, что твою правду не пропустит. Можно только то, что говорит партия. Даже города наши однообразные и серые, как и наши магазины. За исключением нескольких показушных. Вот я имел возможность отовариваться в наших долбанных «Берёзках», где всё только за иностранную валюту. Там есть всё. Так сказать, островки капитализма в стране дефицита. И меня это всегда возмущало. А почему наш народ живёт не так? Почему ему нельзя в эти пресловутые «Берёзки»? А почему нельзя сделать, чтобы в стране всюду были такие магазины, как там у них? – кивнул он головой куда-то за окно. – Там в дурном сне никому не приснится открывать магазины, где всё бы продавали за рубли.
В долгих сидениях на островах мы не раз вели такие дебаты. И однозначно приходили к выводу: всё дело в нашей системе. Наше государство не в состоянии всё делать само: развивать туризм, производить всевозможные товары потребления, наконец, просто сыто и вкусно кормить народ и ещё многое. Его в полной мере хватает только на вооружение. Посмотри: самые крупные заводы в стране в любом городе военные. Только один завод на Урале в день выпускает шесть танков. В день! Работая в три смены без праздников и выходных. Зачем столько? Мы что, весь мир собрались завоёвывать? Страна превращается в какой-то военный лагерь и экономически живёт по законам военного времени.
А теперь вот и Афган добавился. С такой системой всё не успеть. Не хватит никакого государства. Отсюда и вечный дефицит почти на всё. А там у них, – снова кивнул за окно, – у государства об этом голова не болит. А магазины полны и никакого дефицита ни в чём. Нонсенс! А почему?
– Вероятно, работают лучше, – ответил я.
– Есть и это, но не настолько, – возразил Семёныч. – Народ там и снабжает и кормит сам себя – вот главное. А корень всего этого в частной собственности, которую запретили наши партийные бонзы раз и навсегда. Ведь Ленин, что бы о нём ни говорили, был не дурак, и понял после гражданской войны: без частной собственности страну быстро не вывести из коллапса, в который коммунисты её и загнали и они её рано или поздно потеряют. И ввёл так называемый НЭП,**** разрешив частную собственность в сфере услуг, мелкого производства и торговли. И страна стала быстро выбираться из дерьма. Народ без помощи государства стал снабжать сам себя. Только не мешай. Но Сталин потом всё это похерил, оставив, правда, потребсоюзы и мелкие кооперативы. Может, помнишь, были всякие ВОСы и ВОГи и прочие, состоящие в большинстве из инвалидов и женщин?
– Общества слепых, глухих? Конечно, помню. Они выпускали хоть и примитивную, но не дорогую всевозможную бытовую продукцию и одежду. И потребкооперацию помню. В их магазинах ассортимент был разнообразнее, чем в магазинах государственных. А потом они куда-то пропали.
– Их окончательно добил Хрущёв, превратив в государственные. И за несколько лет они развалились, добавив дефицит товаров и продуктов. Это были первые истоки предстоящего будущего развала государства.
Эти слова тогда в те годы были равносильны тому, что если бы сейчас, при температуре минус тридцать, в небе громыхнул гром и полил ливень.
– Семёныч, что-то я не понимаю, о каком развале ты говоришь?
– Молод ты ещё, дружище, – улыбнулся заслуженный штурман СССР, увидев на моём лице неприкрытое удивление. – Я что-то страшное говорю?
– Скорее, нечто невероятное, – промямлил я.
– Да нет, дружище. Государство, взявшее на себя тотальный контроль в стране от иголок до ниток и запретившее всё это делать народу, долго не может существовать. И если не изменит свою политику, будет обречено и развалится, как трухлявый пень. Когда это произойдёт, я не знаю. Возможно, и при нашей жизни. И эти тенденции всё виднее. Мир уходит вперёд, а мы, отгородившись железным занавесом, топчемся на месте из-за того, что родная партия не хочет дать экономическую свободу народу. Не политическую, заметь, а экономическую. Не хочет поступиться истлевшими и изжившими себя марксистско-ленинскими догмами, возведя их в политический ранг. И именно это и доканает нашу партию, а с ней и страну.
– Ничего себе, Семёныч, картиночку ты изобразил! Сто шестнадцать пополам***** ещё ведь совсем не отменили. Не боишься?
– Ну, если ты не заложишь, – улыбнулся он и потянулся к стакану. – Нарушим что ли традицию? Уж очень разговор, вижу, для тебя интересный. Это тоже, кивнул на тетрадь, – запишешь?
– Сам же говорил, писать нужно только правду.
– Ага, вот оно как, значит. Ну, валяй, пиши, – махнул он рукой, разливая спирт по стаканам. – Кстати, ты коммунист?
– Как ни отлынивал – заставили вступить. Лётчик и не коммунист в наше время редкость. Да и с переучиванием на другую технику проблемы. Как у нас говорил командир эскадрильи Буренин, и хрен бы с ней. Но вот ежемесячных 15-20 рублей партвзносов жалко.
– Это точно! У меня и больше бывало. Ну, по глотку! Будь здоров! И чтобы эта муть, – кивнул за окно, – наконец кончилась.
А муть и не думала успокаиваться. За окном давно была полярная ночь, и что-то в ней там выло, свистело, скребло в окна сухим, как наждак, снегом и казалось, что весь мир состоит только из этого. Не верилось, что где-то есть большие города, тёплые моря, а на пляжах весёлые, беспечные и загорелые люди.
– Так вот, – выдохнув, произнёс Семёныч, меняя тему и переходя к старому. – В какое-то время я вдруг ясно понял: не моя это была женщина. Сейчас даже не скажу, а любил ли я её? Вроде бы и любил, ну а порой кажется, что и нет. А, может, мне просто не довелось в жизни испытать той всеобъемлющей и испепеляющей любви? Как ты думаешь?
Я даже рассмеялся этому вопросу.
– Семёныч, ты в два раза старше меня, прошёл такой жизненный путь, а задаёшь мне, юнцу, этот вопрос, как будто я могу знать больше тебя.
– Ну, вы, молодые, сейчас все ранние. Это нам в юные годы некогда было особо шуры-муры крутить. А сейчас время другое. А я вот в свои старые годы оказался на распутье и не знаю, как быть и что делать? Уйти на пенсию, разменять квартиру и запить? Нет, это не моё. Вот и остаётся только одно до конца: летать. Лебезить перед врачами, давать им взятки, дарить подарки, чтобы допустили к полётам. А когда окончательно спишут – будь, что будет.
– Ещё полетаешь, Семёныч, – ободрил я его, – ты прекрасно выглядишь.
– Да ладно тебе, я не девушка, чтобы комплименты выслушивать. Сам себе признаться боюсь, но вот тут, – приложил ладонь к груди, – стал иногда замечать: не так что-то там работает. Хорошо бы, если сразу – и в небеса. А пойдёшь с жалобой к врачам – спишут и не поморщатся. Такие вот, брат, мои старые дела. А сын у меня, – он взял стакан, посмотрел зачем-то его на свет и поставил на место, – а сын у меня сидит за фарцовку и наркотики. За это у нас много дают.
Он снова взял пустой стакан, покрутил его, снова посмотрел на свет и снова поставил на место. Волнуется, понял я. Непросто даётся ему этот разговор.
– А мог бы ведь вот, как ты, – сглотнув слюну, произнёс. И увидев мой сожалеющий взгляд, уже другим голосом произнес: – Ладно, замяли. Ничего уже не вернуть.
В коридоре раздался весёлых хохот, дверь в нашу восьмиместную каюту распахнулась и ввалились ребята, до маковки занесённые снежной пылью. Быстро сдёрнули с себя арктические неуклюжие шубы и унты.
– Вы, я вижу, тоже тут время зря не теряли, – кивнув на стол с бутылкой, сказал молодой бортмеханик из экипажа Семёныча.
– Не вам одним, – пробурчал тот в ответ. – Как время провели? Что-то не все явились. Где ещё двое?
– Нормально. А двое остались в дурака играть. Да и спирт кончился. Ты же больше не дал.
По укоренившейся с давних лет традиции в экипаже спиртом распоряжался штурман. От него зависело, сколько его можно списать на производственные нужды, а сколько…
– Неужели на деньги аборигены играть стали?
– Да нет, улыбнулся Лёша. – На поцелуи.
– Хозяйку что ли лобызают?
– Ну, скажешь, Семёныч! Она старая уже. С хозяином спирту глотнули – много ли им надо – и спасть среди шкур завалились. А у них две дочки есть. Вот с ними и играют. По типу: я проиграл – я целую, я выиграл – меня целуют.
– Развели амуры, – проворчал штурман, зевнув. – Доцелуются. – И стал молча разбирать свою кровать.
Двое остальных пришли, когда все уже спали.
–
Наутро серый арктический рассвет обозначился ясным звёздным небом и усилившимся морозом. Ветер стих. На аэродроме закипела работа. Откапывали стоянки, приводили в порядок взлётную полосу. К самолётам подтащили тепловые машины для прогрева двигателей и кабин. Вернее, готовили один самолёт, собрав около него всю наземную технику. Потом второй и третий. На каждый уходило около 2 часов.
Лететь нам всем предстояло по одной и той же трассе на юго-запад вглубь материка, но до разных городов, и на всём её протяжении синоптики давали хорошую погоду. Надоевший циклон ушёл на восток.
Первым приготовили самолёт Семёныча. Все были в повышенном настроении, наконец-то начнётся работа. Пожали друг другу руки, пожелали удач. Расставались с шутками-прибаутками. Больше всех досталось ребятам, вернувшимся ночью. Мол, где же ваши подруги? И для них в самолёте место найдётся.