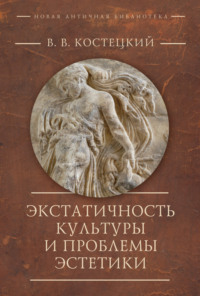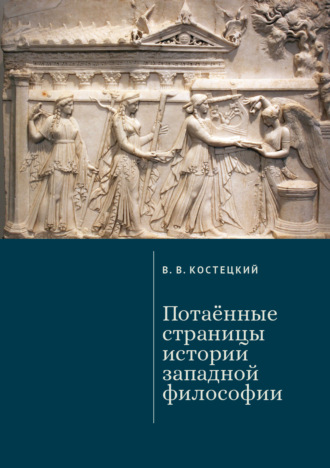
Полная версия
Потаённые страницы истории западной философии
Историки, конечно, замечают, что крито-микенская цивилизация, это один тип цивилизации, а Эллада после архаического периода (XII–IX вв.) – другой. Все «объяснения» появления цивилизации другого типа у историков сводятся к «появлению железа» (Х в. до н.э.), «великой колонизации» (VIII–VII вв.) и «разложению патриархально-родового строя». Хорошо, что у медиков такого рода «объяснения» остались в прошлом: у больного температура, потому что он заболел.
Конечно, историки философии вынуждены обращаться к истории, археологии, лингвистике, филологии, – только само состояние этих наук очень часто приводит к разочарованию. Иногда история философии начинает идти на поводу конкретных наук. Тогда появляются однообразные заявления о происхождении западной философии: «греческое чудо», «переход от мифа к логосу», «зарождение науки», «рационализация мышления», «секуляризация», «колонизация». Как будто после всего набора «факторов» до философии остаётся один шаг.
Конечно, набор уникальных факторов имел место: и климат, и изрезанность береговой линии, и колонизация, и наличие письменности – да мало ли что ещё. Но вопрос о происхождение западной философии не сводится к «влияниям», а стоит жестко: почему в некоторых странах философия не возникает никогда? Почему в некоторые исторические эпохи философия не возникает ни у кого? Почему, наконец, в числе оригинальных философов никогда не бывает женщин (что не исключает их философской эрудиции)? Почему философия западного типа возникла лишь в одной стране (Элладе), лишь в определенный период (VII–VI вв. до н.э.) и далее лишь распространяется подобно диффузии культуры по другим временам и странам?
Конечно, идея связать истоки западной философии со спецификой «полиса» совершенно оправдана, только её вряд ли следует заполнять абстрактными фактами. Факты нужны, но совсем другого рода. Когда О. Шпенглер утверждает, что «античная этика была этикой осанки», – это факт, но не музейный и не археологический. Об этом факте говорят все пластические искусства античности. Точно так же О. Шпенглер заявляет: «Дом – наиболее чистое выражение расы из всех, какие только бывают» [Шпенглер, 2009, с. 155]. Факт состоит в том, что дом не сводится к зданию. Дом может быть даже «домом на колесах», «машиной для жилья» (Л. Корбюзье), руинами, халупами, улицей – человек не может жить без «своего дома».
О том, сколь трепетным было отношение горожан в полисе к своему дому, красноречиво свидетельствует Ксенофонт, современник Сократа (и спасенный им во время боев). Оказавшись в изгнании и став писателем, Ксенофонт оставил потомкам не только «Воспоминания о Сократе», но и трактат «Домострой». По ходу повествования Сократ желает лично увидеться с человеком, которого характеризовали «прекрасным и хорошим человеком». Таким оказался домовладелец по имени Исхомах. В его домовладении всё идеально, все вещи на своих местах, даже любимая жена нравится без белил и румян. Домохозяева, муж и жена, сознательно заняты физическими работами: и делу полезно, и здоровью. Слуги помогают по хозяйству, исполняют работы – хозяева не забывают их похвалить и наградить за аккуратность и исполнительность. Домовладелец любит собак и лошадей, любит выезжать за город смотреть за полевыми работами, очень нахваливает труд на земле. И доходно, и здоровью полезно. Сократ: «Клянусь Герой, Исхомах, сказал я, мне нравится твой образ жизни: такое одновременное сочетание способов для укрепления здоровья и силы с военными упражнениями и заботами о богатстве – все это, по-моему, восхитительно» [Ксенофонт, 1993, с. 235].
Дом, город, цивилизация связаны между собой и это тоже факт. Архетип городов Др.Востока ясен: город возникает вокруг храма, на равнине, на искусственном холме. Храм окружается крепостными стенами, во дворе строится дворец с «мегароном» для пиров. За пределами цитадели хаотичная застройка «временного жилья», сквозь которую при необходимости прокладывают прямые улицы. К краям улицы пристраиваются торговые лавки. Появляется «знать» – население цитадели, часть которого никогда не покидает дворца.
В Элладе ойкос (экос) возникает в результате миграции не крестьян, не заблудившихся воинов, не в результате завоевания новых территорий тем или иным деспотом, а в результате переселения на свободные территории ремесленного населения вместе со своими семьями. Экос и полис семейны по существу, но не в результате «патриархальных отношений родового строя». Архитектура экоса предзадана не предыдущими формами жилья, а символом цитадели: дом-крепость на горе (в другой исторической эпохе тем же символом станет замок). Но мастерская на горе не практична из-за логистики. Возникает архитектурно-экономический компромисс: свой каменный дом (с внутренним двориком) на холме. Не дворец, но каменный дом; не гора, так холм. Домовладелец вполне может позиционировать себя в качестве «басилея» («царька») с соответствующими функциями военного вождя (главы домашнего ополчения), священнослужителя и хозяйственника.
Античный город возникает на холмах и застраивается сверху вниз; между холмами никто строиться не желает по символическим соображениям – так на пустыре возникает «агора» (у эллинов) и «форум» (у римлян). Каждый домовладелец ощущает свое домовладение в качестве собственного государства, заключая с соседними домами-государствами письменные договора. Грамотность в полисе становится всеобщей. Полис – городское поселение ремесленников, поэтому в каждом доме специализированная мастерская, что делает неизбежным существование рынка и товарного производства на продажу. Поэтому в полисе возникает особый экономический уклад, который уместно называть «античным капитализмом».
Насколько эффективным был античный капитализм, могут свидетельствовать такие факты. Кредит был доступным всем домовладельцам, исходя из ста и более процентов годовых. Товаропроизводители были монополистами в пределах полиса. Рабочей силой при «семейном подряде» являлись дети. Ребенка можно было сдавать в аренду в счет погашения кредита: по одному из законов, «не больше чем на три года». Не без цинизма действовало правило «Деньги делают человека». Рабства на момент возникновения полисов не существовало, но в перспективе оно было неизбежным.
Возникновение «эпохи семи мудрецов» совершенно понятно с точки зрения того, что такое экос и полис, одос (улица) и схолэ (досуг) в их конкретном и специфичном наполнении. Но начала античной философии связывают не с мудростью, а с «физикой» («фисиологией» – слово о природе). Все учения «о природе» вписывались в терминологию ремесленной мастерской – стоит ли этому удивляться? Полисы, в которых появлялись «фисиологи», были городами, собранными из мастерских. Удивительно не ремесленное содержание первых «философских учений о природе», а сам факт того, что мастеровой люд, включая домовладельцев, посмел выдвинуть свое понимание мира (пусть сколь угодно ущербное). Учения Фалеса, Анаксимандра, Гераклита – не столько учения, сколько манифесты с требованием понимать природу по аналогии с мастерской, без обращения к преданиям. Надо признать, что манифесты нравились публике, вызывали живой интерес на протяжении пары столетий. Со временем амбициозные манифесты «натурфилософов» трансформировались в «учения» со своей аргументацией, наблюдениями, пояснениями, принимая тем самым вид науки (аналогичным образом в средневековых университетах сложилось богословие). Таковы, например, учения об атомах Левкиппа и Демокрита, апории Зенона Элейского, «музыка небесных сфер» Пифагора.
Что было «философского» в учениях натурфилософов, так это дерзость. При своём возникновении западная философия не придерживалась девиза: «Один за всех и все за одного!». Скорее, девизом было обратное: «Один против всех, потому что прав!». Важен не спор ради спора, и даже не победа в споре, а правота за счет вскрытия ложности популярных взглядов. Первые натурфилософы выдвигали концепции, ложность которых вскрывали друг у друга. В этом, между прочим, был момент шоу, «весёлой науки».
До Сократа античная философия колебалась между шоу и наукой; софистика лишь зафиксировала этот момент. Сократ, типично «уличный» философ, своей «иронией» придал всей западной философии серьёзный характер. Серьёзность состояла в обнаружении того, что художники не знают, что такое красота; музыканты не знают, что такое музыка; врачи не знают, что такое здоровье; педагоги не знают, «что такое хорошо, и что такое плохо». Всем взрослым людям хватает навыков и опыта, но не хватает проницательности; обидно это или смешно, каждый решает сам. Сократ изобрел простой путь в глубину понимания: надо взять слово и попытаться его «определить». Оказалось, что сделать это чаще всего не просто: слова ускользают от определения.
Античная философия «классического периода» (Сократ, Платон, Аристотель) под «мудростью» понимает умение раскрывать в словах знания. Уместно провести такую аналогию: люди принимают пищу – они знают, что едят? Люди называют продукты, знают названия блюд, различают съедобное и несъедобное, но могут ничего не знать о витаминах, жирах, углеводах. Человеческий опыт аккумулирован в языке, но переход от слов к знанию требует особых усилий, чему призвана способствовать философия. Классическая античная философия привела к возникновению «науки логики», а с опорой на логику философия приобрела строгий характер и затребовала знаний, которые стали «наукой».
Естественно, что логика применима к терминологии из разных сфер жизни: к военному искусству, к медицине, к литературе, к повседневной жизни, – поэтому посредством логики классическая античная философия приобрела универсальный характер. В каждой сфере деятельности есть своя терминология: у военных своя, у медиков своя, у политиков своя, у физиков своя. При логическом подходе к профессиональной терминологии появляются соответствующие разделы: философия войны, философия здоровья, философия политики, философия науки, философия искусства.
Чтобы не перечислять разные направления философской мысли, иногда используют выражение «мировоззрение», оговаривая, что это мировоззрение не повседневное. Является ли философское мировоззрение «научным»? Этот вопрос лишён смысла. Философское мировоззрение является философским. Это означает, что профессиональная терминология любого знания, включая научное, подвержена логическому анализу.
Естественно, что профессиональные термины в любой науке логически связаны между собой (формулами, принципами, классификациями), однако, эти связи всегда не полны, а все определения терминов в конечном счете определяются друг через друга. Когда логический анализ вскрывает алогичность профессиональной терминологии, он называется «метафизикой».
Как выглядел метафизический анализ во времена античной философии, можно показать на таких примерах. Например, деньги: в быту это «богатство», у экономистов «особый товар». Метафизически деньги – это орудие при активной позиции гражданина в городе. Житель деревни может быть активным без денег, житель города не может. Из этого можно сделать много выводов, в том числе такой: если активность горожан направлена на процветание города, им нужны деньги (кредиты, фонды); если не направлена, они им не нужны (налоги). Другой метафизический пример: частная собственность – это не вещи, а отношения между людьми по поводу вещей (Аристотель). Точно так же в математике: числа – это не количество вещей при счете, а отношения: равенства, неравенства, превышения, обращения. Например, на чашах весов приравниваются друг другу и вступают в отношения совершенно разные вещи. Многие виды чисел возникают в результате «обратных отношений». Так, если из меньшего числа вычитать большее, возникают «отрицательные числа». А если извлечь корень квадратный из числа два, то возникнет иррациональное число без строгой величины. Математическая терминология требует значительных метафизических рассуждений. Метафизика профессиональной терминологии не является теорией, но она требует перехода от опытных знаний к теоретическим. По этой причине математика Евклида или Архимеда стала возможной после метафизики Аристотеля, то есть применения логики к профессиональной терминологии.
Когда речь заходит о логике, возникает искушение объявить о рационализации, о переходе от мифа к логосу. Но история науки свидетельствует о другом. С XII века в Европе стали возникать университеты, где наряду с философией, медициной и юриспруденцией ввели «науки о Боге» и открыли богословский факультет. Богословы точно так же как античные натурфилософы, были не лишены юмора: «Может ли Бог создать такой большой камень, что сам не сможет поднять?» Университетские богословы столетиями творили мифологию Абсолюта с субстанциями и акциденциями, модусами и атрибутами, интенциями и ипостасями. Богословие по методу (логика) – наука, по предмету – миф.
Возникновение логики в разные времена и в разных странах не редкость. Применение разное. Можно строго логически строить мифы или математические теории. Можно математику выстроить логически. Можно естествознание излагать математически. В античный период западной философии логику обратили друг против друга. Сначала это было забавно, потом полезно. Ирония Сократа не была дружеской, не была лицеприятной и комплиментарной. Это само по себе не соответствует, например, индийской этике: не говори правду, если она неприятна; не говори приятное, если это неправда; говори правду, когда она приятна. Для западной философии характерна, как я уже сказал, дерзость: не знаешь, не говори; знаешь правду – не молчи. Позднее Данте добавит: «следуй своей дорогой, пусть люди говорят что угодно». На этом пути были жертвы, начиная с Сократа.
Сравнивать философию Запада и Востока не очень уместно, особенно с точки зрения их истоков. На Востоке вся философия существует в качестве обновления традиций, традиционного знания по цепи ученической преемственности. Традиции восходят к «откровениям», к пророкам – в традициях много правды. Времена, народы, языки меняются, скрывая правду откровений. На Востоке мудрые ей внимают и к ней возвращаются. В западной философии такая позиция называется «теософией» и известна со времен Пифагора. Если бы западная философия возникала среди аристократии придворного общества, она обязательно бы нашла себя в теософии (примером может служить масонство), но западная философия возникла среди ремесленного люда с правами домохозяев, в городе мастеров. Ксенофонт считает величайшими добродетелями, когда жена богатого домовладельца умеет сама ткать на станке, хлопает половички, подает пример аккуратности и рачительности, а домовладелец организует производство товаров на продажу и сам сажает деревья в собственных садах. Такими были горожане той эпохи в своем большинстве. Им нравилось жить в своем доме, в здоровом климате, трудиться, богатеть, общаться с равными себе соседями и сообща решать проблемы водопровода и обороны. Кризис семьи оборвал идиллию, жадность до денег смела патриотизм. Спасла улица: встречались, обсуждали, горевали, смеялись. Потом принимали сообща решения. Философия, наука, искусства появлялись по случаю, но замечались, приветствовались и вдруг становились общей культурой.
Обычно у всех народов другая ситуация: не умение оценить любое мастерство, хоть малое, хоть большое. Вот типичная ситуация российской повседневности:
Я написал стих.«Не Пушкин», – мне говорят.Я наиграл сонет. –«Ты совсем не Башмет». Я ходил на этюды И написал полотно. «Уймись, – мне говорят, – Ты не Анри Моро».Я пошел на войну.Шлю оттуда письмо.«Ты не Стендаль», – говорятИ не читают его. Я ближнему сердце отдал. «Ты не Христос», – говорят. – А сами вы кто, Живущие напрокат?Проблема Пифагора в истории философии
«Наука манипулирует вещами и отказывается вжиться в них»
Морис Мерло-Понти. («Око и дух»)Под «проблемой Пифагора» традиционно понимается легендарность мыслителя, существование которого ставится под сомнение. От самого Пифагора, если он существовал, никаких текстов не дошло; возможно, он их не писал. Сократ тоже не писал текстов, но аналогичной «проблемы Сократа» не возникло благодаря Платону. Пифагору же наследовали некие «пифагорейцы», которые упоминаются десятками: «ранние» (могли слушать Пифагора), «средние» (современники Платона), «неопифагорейцы» (современники Цицерона и Сенеки), – которые о нем что-то знали, что-то приписывали ему.
В историко-философской литературе забывают упомянуть о том, что «пифагорейцы» не имеют отношения к самой философии. Это люди, которые разделяют максиму, приписываемую Пифагору: исследовать природу полезно для очищения души. Имеется в виду очищение души от злокачественных страстей: зависти, жадности, мстительности, гневливости, обидчивости. По этой же причине женщинам нравится, например, вязать, вышивать, прибираться. Так называемые «пифагорейцы» находили себе занятие ботаникой, анатомией, астрономией, арифметикой и геометрией, литературой и искусством. Например, пифагорейцами себя считали скульптор Поликлет и писатель Плутарх. Нередко досуговые занятия в форме «изучения природы» оборачивались вполне профессиональными знаниями. Алкмеон прославился как врач, Гиппас как математик, Менестор из Сибариса прославился как первый ботаник. Были и такие, кто пытался уподобить себя философам, например, Филолай. Под видом философии у Филолая появлялись мистика чисел и мистическая астрономия вплоть до учения о Противоземле. Рассуждения Филолая нравились публике, он стал знаменитым.
Возникает довольно странная ситуация. В философии интересен прежде всего сам Пифагор; пифагорейцы интересны при специальных исследованиях. Но филологи и переводчики о Пифагоре ничего, кроме цитирования разных источников, сказать не могут. Проблема Пифагора оборачивается методологией: если историки философии не философы, а философы – не историки философии, то фигура Пифагора просто исчезает из истории западной философии.
Между тем, у Пифагора в истории западной философии на протяжении двух с половиной тысяч лет есть своё место: его влияние ощутимо в платонизме, в христианской философии, в античной науке, в философии Гегеля и Ницше, в передаче учений «великих посвященных», в современных представлениях об «измененных состояниях сознания». Всякий раз, когда в западной философии оформляется тот или иной иррационализм, так фигура Пифагора становится актуальной.
По датам жизни Пифагор относится к самому старшему поколению «фисиологов», озабоченных вопросом из чего (какого материала) возникает «фюсис», природа. Вопрос мифологичен по-существу, несмотря на механический характер вводимых аналогий. У Пифагора нет такой постановки вопроса; он не вступает в дискуссию с мнением Фалеса или Анаксимандра – иначе память об этом сохранилась бы. Можно сказать, что Пифагор первым порывает не только с мифологическим мышлением, но и с примитивным рационализмом своих современников. Рационализм Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена мастеровой, производственный. После Пифагора сам рационализм в натурфилософии меняется. Рационализм Парменида логичен; рационализм Гераклита поэтичен. Возникают так же рационалистические суждения в медицине, биологии, астрономии. Пифагор реально влиял на характер последующей философии; поэтому авторская позиция Пифагора, можно сказать, «вычисляется» – даже без текстов самого Пифагора.
Сказать, что мы о Пифагоре ничего не знаем, было бы явным преувеличением. О нем довольно подробно сообщают Диоген Лаэртский в описаниях «знаменитых философов», Порфирий в «Биографии Пифагора», Ямвлих в «Жизни Пифагора»; сохранились изречения о Пифагоре Гераклита, Ксенофана, Демокрита и других мыслителей, близких по времени. Поэтому контекст философии самого Пифагора имеет ориентиры, дело за реконструкцией.
Начать можно с «теоремы Пифагора». Нет сомнений в том, что Пифагор не изобретал эту теорему: она была известна в Египте и Вавилоне с незапамятных времен. При строительстве больших объектов для построения прямых углов на земле использовалась веревка с узелками на расстояниях друг от друга 3, 4, 5 мер длины, которая складывалась в прямоугольный треугольник. Вместе с проверкой равенства диагоналей на плане местности этого было достаточно для разметки фундамента прямоугольной или квадратной формы. Очевидно, что 3 × 3 + 4 × 4 = 5 × 5 – пример частного случая известной теоремы. В математике Др.Востока не существовало процедуры под названием «доказательство»; ограничивались «знанием». Первым стал «доказывать» геометрические тезисы Фалес, с чем Пифагор был знаком. Поэтому можно предполагать, что в «теореме Пифагора» Пифагор изобрел не саму теорему, а её доказательство в виде построенных на катетах и гипотенузе квадратов с проведенными внутри них диагоналями.
«Теорему Пифагора» можно рассматривать как своего рода прецедент синтеза рецептурных знаний Др.Востока и юридической практики Запада в форме «доказательства». Пифагор и далее будет перелагать систему жреческих знаний Др.Востока в рационально-механические формы западной терминологии. Такие термины, как «космос», «философия», возможно, «музыка» появляются с подачи Пифагора, даже если сами слова не им изобретены. В Элладе кифаристика и авлетика, то есть игра на кифаре (струнный инструмент) и авлосе (духовой инструмент) не объединялись в «музыку». Слово «музыкант» означало последователя муз, то есть образованного человека.
Пифагор музыке придал космическое значение своим нововведением «музыки небесных сфер». Это был достаточно хитроумный ход, который, по всей вероятности, и вызвал возмущение Гераклита, известное брошенной им фразой «многознание уму не научает». Хитрость была в том, что натурфилософия посредством музыки переводилась из атмосферы мастерских в атмосферу орфизма и дионисизма, за которыми, в свою очередь, скрывались рецептурные знания жрецов Др.Востока. В глазах Гераклита в таком случае Пифагор выступал «агентом влияния», что и в самом деле соответствовало действительности.
Довольно примечательно, что современный автор текстологических исследований «раннего пифагореизма» Л.Я. Жмудь в резкой форме отвергает причастность «пифагорейцев» к шаманизму, который М. Элиаде, как известно, ассоциировал с «первобытной техникой экстаза». Конечно, Л.Я. Жмудь прав в том, что Пифагор и пифагорейцы не были шаманами, но из этого не следовало, что они избегали экстаза в иной технике исполнения, не в первобытной. Между тем, сам термин «экстаз» (εκ-στασις) никаких шаманских экзальтаций не предполагает; его смысл «смещение». Значение термина «экстаз» в качестве восторга, радостного исступления, оргиастической реакции довольно позднего происхождения, за пределами исторической Эллады.
Без термина «экстаз» философия Пифагора не реконструируема. Только пифагорейский экстаз надо понимать в буквальном смысле как «смещение», или в современном значении как переход в «измененные состояния сознания» [Костецкий, 2022]. Речь не идёт об одержимости, мании, гипнозе, камлании, трансе; скорее, речь идёт о тактичности, вдохновении, настроении, энтузиазме. Например, человек закончил свои дела в мастерской, умылся, переоделся и пошел в театр – естественно, должно произойти «смещение» психики, даже физиологии отчасти. В общем случае можно говорить о том, что человек нуждается в формах смещения психики субъекта под соответствующий объект. Под театр одно смещение, под войну другое, под математику третье. Гносеология Пифагора требует «смещения» субъекта под объект. В поздней эстетике подобное требование определилось в качестве «такта». Но тактичным человек должен быть не только по отношению к людям, но и по отношению к объектам любой деятельности. Для этого надо «смещаться». На поверку философия Пифагора оказалась полезной и практичной, в которой этика и эстетика переплелись в познавательной и деловой активности. Не случайно авторитетный Демокрит рассыпался в похвалах Пифагору, а в родном городе Демокрита по его, возможно, инициативе, впервые напечатали монету с изображением философа – Пифагора.
В целях реконструкции философии Пифагора было бы полезным привлечь к рассмотрению ряд терминов, производных или, напротив, восходящих к «экстазу». Например, Аристотель знает такие термины как «энтузиазм» и «катарсис». Более того, Аристотель не забывает дать определение: «энтузиазм есть возбуждение нравственной части души» [Аристотель, 1984, с. 636]. И.Кант почти буквально повторит за Аристотелем: «идея доброго, соединенная с аффектом, называется энтузиазмом» [Кант, 1966, с. 282]. Что касается «катарсиса», то это не термин аристотелевской эстетики, как полагал З.Фрейд, а термин храмовой медицины во времена дионисийских празднеств. Вполне вероятно, что Пифагор знал оба термина (и энтузиазм, и катарсис), требуя от своих слушателей «очищений» души, причем, разными способами: от гигиены и питания до вокала, танцев и музыки. В философии Пифагора человек должен быть энтузиастом; энтузиазм – общее состояние самого мира, космоса, «бытия». Термин «энтузиазм» точный, конкретный, наглядный. Военный энтузиазм называется «боевым духом», творческий энтузиазм называется вдохновением. Когда историки философии проходят мимо этого термина, то начинаются блуждания мыслей типа «космос Пифагора живой», «чудеса Пифагора – выдумки», «религия у Пифагора на первом месте». В энтузиазме нет религии; это в религии есть энтузиазм.