Красный газ. Россия и возникновение энергетической зависимости Европы
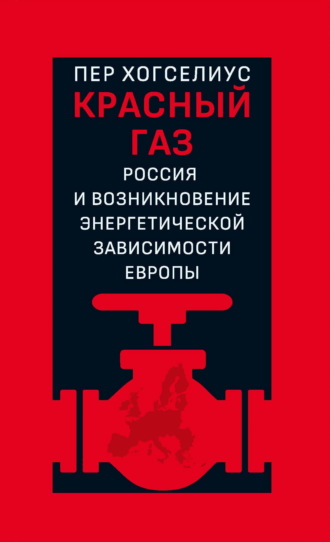
Красный газ. Россия и возникновение энергетической зависимости Европы
Жанр: публицистическая литературазарубежная публицистикапублицистикасерьезное чтениеоб истории серьезнопопулярно об истории
Язык: Русский
Год издания: 2013
Добавлена:
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента

