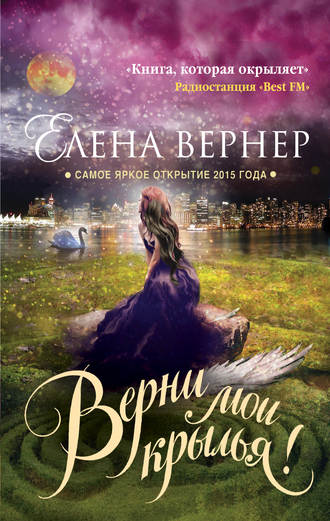
Полная версия
Верни мои крылья!
– Я ем мандарин, – сообщал ей Кирилл, словно поддразнивая, и Ника могла поклясться, что чувствует эфирный запах рыжей мякоти.
Она и сама стала примечать и запоминать какие-то несущественные мелочи, осколочками жизни кружащиеся вокруг нее, пылинки бытия. Смутный сон, обрывок колыбельной, которую напевала молодая мама, склонившись над коляской прямо посреди улицы и ничуть не смущающаяся своего пения. Однажды в метро Ника, уцепившись за поручень и при каждом торможении поезда наклоняясь, как лыжник на трассе, на пыльном окне заметила надпись. Чуть подтертая, чуть подкрашенная белым корректором в крепкой руке анонимного умельца, из «МЕСТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ» она превратилась в «ЕСТ ОЛЯ ВАЛИДОЛ». Стараясь удержать рвущийся наружу смех, чтобы сидящие люди не подумали, что она потешается над ними, Ника запомнила надпись и весь день носила ее в себе как подарок, который вечером подарила Кириллу. Он хохотал.
Иногда, в моменты обычной для нее рефлексии, она размышляла над парадоксом их телефонных отношений и раз за разом приходила к выводу, что это единственные отношения, на которые она могла бы пойти в своей ситуации. И по необъяснимой, даже мистической причине именно они ей и подвернулись. Телефонные провода, соединяя, одновременно держали на расстоянии. Может быть, поэтому говорили Ника и Кирилл доверительно и искренно, о самых волнующих переживаниях. И хотя девушка умалчивала о том событии, что так сильно изменило, прервало ее прошлую жизнь, во всем остальном она была настолько откровенна, что не верилось даже ей самой. Было в этом что-то от «синдрома попутчика», ведь они могли прекратить общение в любой момент, лишь опустив трубку на рычаг. Всего одно движение – и жизнь обоих осталась бы совершенно не тронутой.
Ника не задумывалась, что обманывает сама себя. Исчезни вдруг Кирилл – и она почувствовала бы себя глубоко несчастной, даже брошенной, потому что близость, установившаяся внезапно между ними, с каждым новым вечером обрастала смешными мелочами, шутками и оговорками, понятными только им двоим, и всем тем, что непременно возникает между двумя людьми, когда они общаются довольно тесно. Уже через неделю после его второго звонка она купила радиотелефон, чтобы во время бесед беспрепятственно бродить, шлепая босиком по линолеуму, по квартире, – даже не сознавая, что этим поступком со всей очевидностью обозначает присутствие Кирилла в своей затворнической жизни.
Даже говоря о погоде, он был не похож на других людей. В оттепель он подробно описывал ей причудливого снеговика, слепленного детворой под окнами: нахальный кот в старой белесой шляпе и с соломенными усами из распотрошенного веника. Когда подморозило, он считал в черном небе самолеты, заходящие на посадку в ближайший аэропорт, и путал их бортовые огни с ледяным мерцанием редких московских звезд.
Бывало, они болтали о кино или книгах. Во втором вопросе они были подкованы оба, а в первом только Кирилл.
– Откуда ты столько знаешь про кино? – удивлялась Ника. – Кажется, что ты целыми днями смотришь фильмы…
– Да нет, просто люблю. Это как анестезия. Жизнь ведь сильно отличается. Она не кино и не театр. Все совсем иначе, слишком реально. Ты когда-нибудь держала в руке пистолет?
– Нет.
– В кино им так лихо размахивают и метко стреляют даже те, кто по сюжету впервые взял его в руку. А на самом деле это восемьсот граммов. Пакет молока в вытянутой руке, а от выстрела еще и отдача. Или когда получаешь в глаз – ощущение совсем не киношные. Да что далеко ходить! Вот в кино показывают какой-нибудь побег из тюрьмы или ограбление банка… кажется, обыденность. А на самом деле – какие эмоции человек испытывает, идя, например, на экзамен, а? Страх. Который вообще-то не идет ни в какое сравнение с тем страхом, что испытывает грабитель банка… В таких ситуациях мозговой центр вообще бы должен отключиться, а киногерои еще и шутить умудряются. Уж мне поверь, я знаю о страхе много.
Ника не стала уточнять, что и она знает о нем предостаточно.
– Нет, – продолжал Кирилл, – это все нереально. Ненастоящее.
– Это искусство, – тихо вздохнула она.
– Это только подражание жизни. А есть настоящая жизнь. И их надо различать. Потому что иначе есть шанс напортачить по-крупному – из любви к якобы искусству. Допустить ошибку, которой нет прощения.
– Ты это о чем? Теряю нить.
– Да так…
Когда Ника спросила его о профессии, он ответил довольно расплывчато:
– То одно, то другое.
– Но ведь ты же что-то заканчивал? Или у тебя нет высшего образования?
– Есть.
Она уже достаточно изучила его, чтобы не настаивать. После нескольких лет почти полной изоляции, отстраненности от людей или по крайней мере от близких контактов с ними она лучше, чем кого бы то ни было до этого, чувствовала Кирилла, его настроения и их легкие перемены, почти неуловимые, как дуновение воздуха из оконной щели. И никогда не настаивала – не чувствовала, что имеет на это права.
Однажды Ника призналась, к слову пришлось, что ее мама никогда не имела для нее особого авторитета. Суетливую и взбалмошную, часто закатывавшую глупые истерики, болезненно цепляющуюся за уходящую молодость, мать Ника никогда не принимала всерьез в отличие от отца. И тогда Кирилл впервые упомянул – ее.
– Наверное, ты просто не понимаешь, что это такое: мама, – осторожно заметил он.
Осознав, что Ника вопросительно молчит, Кирилл пояснил:
– Я имею в виду мама для таких, как я. Мифическое существо. Как единорог. Такая же сияющая, сказочная… Я никогда не верил, что она отказалась от меня по собственной воле. Всегда казалось, что пришел какой-то бабай с мешком, сунул меня в этот мешок, взвалил на плечо и унес с собой, а она меня ищет все это время. Ведь в сказках таких историй полно! Всякие злобные ведьмы или гномы, ворующие первенцев из колыбелек или подкладывающие туда подменышей вместо родных человеческих детей. Я думал, что это мой случай.
Ника ощущала, что от сочувствия в горле ее что-то сжимается. Кирилл продолжал:
– А потом я вырос. С какого-то момента мы в детдоме перестали говорить о наших матерях. Раньше рассказывали друг другу небылицы по ночам. Кого только не было среди наших выдуманных пап и мам! И суперагенты в стиле Брюса Уиллиса и Сары Коннор, и инопланетяне, и даже Алла Пугачева… Мы делились мечтами, дрались, если кто-то не верил или стремился облить грязью очередную легенду. Это по большей части были те, кто своих родителей помнил. Наркоманов, алкашей, зэков, – короче, тех, кого лишили родительских прав, когда дети уже подрастали. Те ребята хлебнули столько всего, что разочарований хватит на десяток жизней. А мы, малые, жили в своих выдумках, так было проще. Не так безнадежно. Обидчиков колотили жестоко, собираясь после отбоя, как стая волчат, и думали, что защищаем своих мам и пап… Чаще, конечно, мам. А потом все кончилось. Как отрезало. Все просто перестали упоминать родителей, в любых контекстах. Это был, наверное, класс пятый-шестой, и наступило осознание, что не явится никакая фея-мама и не заберет отсюда. Это как верить в Деда Мороза – просто в какой-то Новый год понимаешь, что все это фуфло.
Пока Кирилл молча размышлял, Ника хотела было сказать что-нибудь наподобие «мне очень жаль» – просто чтобы дать ему почувствовать свое внимающее присутствие, но вовремя прикусила язык. Эта фраза прозвучала бы совершенно по-идиотски, как, впрочем, и любая другая.
– И знаешь, что? – хмыкнул Кирилл. – Я нашел ее. Добыл номера ее телефонов и даже адрес. И несколько дней чах над этим сокровищем, как трусливый Кощей. Не мог решиться. Все ходил из угла в угол. Живот сводило. Такого не было ни перед одним экзаменом в жизни, ни перед… чем-то и похуже, я обычно умею держать себя в руках. А тут как парализовало! Потом я написал на бумажке, все, что хотел сказать. Как меня зовут, кто я такой… для нее. И позвонил. Я уже все продумал, как именно буду говорить, куда поведу ее при встрече, во что буду одет. Сперва я решил за ней заехать на машине, но потом осознал, что не очень-то удобно знакомиться с собственной матерью в машине. Так что я заказал столик в ресторане. Чтобы можно было сразу сесть и смотреть в глаза. Понимаешь, я уже видел, как все это будет происходить! По кадрам! Предполагал, что она будет плакать, и утирать украдкой слезы, и объяснять мне, почему так вышло. И что будет так на меня глядеть, будто не может насмотреться. Я хотел произвести на нее хорошее впечатление, чтобы ей не было за меня стыдно. И… когда я позвонил… К телефону подошел ее муж, не мой отец, другой мужчина, кто мой отец, я так и не знаю. Я попросил позвать ее. И когда она сказала «Алло», я все ей выложил. Старался говорить помедленнее, я ж не изверг, понимаю, каково такое услышать. «Здрасьте, я ваш сын…» А она все молчала. И когда я закончил, она просто повесила трубку.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Никола Тесла (1856–1943) – изобретатель в области электротехники и радиотехники, физик.







