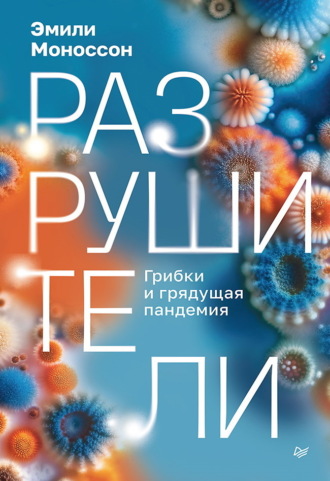
Полная версия
Разрушители. Грибки и грядущая пандемия

Грибковая инфекция кожи, гениталий или горла может заставить нас спрятать пальцы на ногах и отправиться к врачу, но она редко бывает смертельной. Опасность возникает, когда грибок проникает в нашу кровь. Ежегодно около миллиарда пациентов10 борется с грибковыми инфекциями, и для 150 миллионов они представляют угрозу для жизни; 1,6 миллиона человек в мире умирают. Эта цифра сопоставима с количеством смертей от туберкулеза и почти в три раза превышает смертность от малярии. Инвазивные виды в зависимости от вида, штамма и других условий убивают от 30 до 100 % зараженных. В больницах частой причиной инфекций, передающихся через кровь, становится вид дрожжей Candida, причем в большинстве случаев виноват грибок C. albicans. Еще до появления C. auris системные дрожжевые инфекции были известны своей высокой смертоносностью, несмотря на лечение противогрибковыми препаратами, – от них умирает около 40 % больных11.
Первые сообщения о росте числа инфекций Candida появились в 1950-х годах. Сюда можно отнести большой спектр заболеваний: от молочницы (вызванной дрожжами, растущими во рту и горле) до вагинальных инфекций или, что еще хуже, редких грибковых инфекций, поражающих основные внутренние органы, например сердце. Причиной такого роста стало широкое распространение антибиотиков. Некоторые специалисты даже называют дрожжевые инфекции «болезнью антибиотиков»12. При всех их преимуществах, которых действительно немало, мощные препараты могут уничтожать не только бактериальную инфекцию, но и полезные бактерии. Например, антибиотики широкого спектра действия способствуют чрезмерному росту грибков, «убивая» такие кишечные бактерии, как Lactobacillis и Bifidobacterium, которые помогают держать Candida под контролем. Когда количество этих бактерий снижается, мы, по сути, собственноручно жмем на красную кнопку, и грибок, подобный C. albicans, взрывает все вокруг. Так что антибиотики могут сделать нас более уязвимыми для некогда безобидных грибков.
К счастью, врачи умеют очень эффективно лечить пациентов, которые длительно принимают антибиотики, противогрибковыми препаратами, чередуя лекарства, когда это возможно, чтобы избежать возникновения резистентности. При менее опасных для жизни инфекциях можно обойтись без антибиотиков, однако если приема этих препаратов не избежать, помогут живые культуры Lactobacillus acidophilus – еще один повод добавить в свой рацион йогурт. Или мы можем принимать капсулы с Saccharomyces boulardii – дрожжами, которые помогают поддерживать микробный баланс. Если мы сможем поддерживать наш микробиом в здоровом состоянии, то вероятность того, что он будет атакован враждебными микроорганизмами, снизится.
На протяжении большей части существования человечества наш микробиом помогал держать в узде потенциально инвазивные микробы – особенно те, которые уже поселились в организме. Большинство из этих микробов – бактерии, которые по численности и разнообразию превосходят грибы. На это есть веская причина: температура нашего тела. Многие бактерии процветают при 37 °C – нормальной температуре человека, – но для многих грибов, предпочитающих температуру от 12 до 30 °C, наше тело подобно Долине Смерти13. Нам, млекопитающим, становится просто слишком жарко, но это тепло, подобно здоровому микробиому, защищает нас от болезнетворного вторжения. Впрочем, в последнее время некоторые ученые стали опасаться, что наш так называемый температурный барьер начинает нас подводить.
* * *Более десяти лет назад Артуро Касадевалл, микробиолог и иммунолог из Школы общественного здравоохранения Блумберга им. Джона Хопкинса, опубликовал работу, в которой высказал мнение, что относительная непереносимость повышенной температуры тела для грибков, возможно, способствовала появлению млекопитающих. Это явление он назвал «грибковым фильтром»14. «Существование млекопитающих абсурдно, – говорит он. – Нам приходится так много есть. Большинство людей едят четыре или пять раз в день, и количество пищи превышает то, которое потребляют большинство других животных на планете. Большая часть съеденной пищи уходит на поддержание температуры нашего тела»15. Мы – высокоэнергетические животные, и Касадевалл утверждает, что, казалось бы, для нас должен был быть выбран не самый благоприятный обмен веществ. Примерно 66 миллионов лет назад млекопитающие не были доминирующим видом, а почти 200 миллионов лет до этого Землей правили гигантские зауроподы, стегозавры и тероподы вроде Tyrannosaurus rex. Затем в планету врезался астероид, и удар привел к вымиранию почти 80 % всех видов животных: от динозавров до морских беспозвоночных.
Постастероидный период, по словам Касадевалла, «был связан с массовым процветанием грибов, о чем мы знаем благодаря ископаемым. Вероятно, выжившие животные могли подвергаться воздействию грибковых спор и потенциальных патогенов»16. Известняк, сланец и песчаник, образовавшиеся из многовековых отложений, хранят свидетельства не только о том, что когда-то было костями. Окаменелости, отпечатанные в этих слоях, – это воспоминания о червях, растениях, насекомых и микроскопических частичках жизни: от пыльцы растений до грибковых спор. Миллиардов и миллиардов спор. После катаклизма Земля, скорее всего, была завалена мертвыми и умирающими растениями и животными – пир для грибов. Гипотетически никакой второй эры рептилий и не могло быть, потому что более восприимчивые виды оказались заражены грибками, а выжить смогли только теплокровные. Возможно, именно поэтому бактерии и вирусы, которые, как правило, переносят человеческий «парник», обычно являются более серьезными патогенами по сравнению с грибками.
Касадевалл считает, что изменение климата ставит под сомнение одну из важных систем, защищающую нас от грибков. Более теплая окружающая среда может позволить некоторым из них выработать более высокую температурную устойчивость. Если грибок сможет преодолеть температурный барьер, то люди и другие млекопитающие могут стать носителями новых грибковых инфекций. Дрожжи, которые обычно растут в болотах или на яблонях, могут эволюционировать, чтобы жить в козах, летучих мышах или людях.
В 2010 году Касадевалл и Моника Гарсия-Солаче написали в соавторстве статью для научного журнала17. Они предположили, что более высокие температуры изменят и, вероятно, увеличат географический ареал грибков, вызывающих заболевания, а также приведут к отбору новых грибковых патогенов с более высокой устойчивостью к теплу тела. В 2019 году, менее чем через десять лет, Касадевалл и его коллеги предположили, что появление C. auris может быть первым примером нового грибкового патогена человека, вызванного изменениями климатических условий18. По его словам, проблема заключается в том, что по мере того, как мы будем вступать в век более высоких температур, некоторые грибки будут адаптироваться, прорываясь через грибковый фильтр. «Сейчас большинство грибков в окружающей среде просто не в состоянии пережить температуру наших тел, но, если некоторые из них адаптируются, мы можем стать открытыми для новых патогенов. Именно это я и утверждал в отношении C. auris»19.
Касадевалл предполагает, что гриб, который может расти при температуре до 36 °C в жаркие дни, со временем эволюционирует и сможет выживать при 37 °C, то есть в нашем диапазоне. Возможно, для естественного отбора хватит всего одного градуса. Известно, что грибы быстро адаптируются к температуре, а это значит, что каждый по-настоящему жаркий день, по словам Касадевалла, становится ходом в рисковой игре, в которой тебе либо везет, либо ты теряешь все. «Мы утверждаем, что тревожная сигнализация уже сработала, и это не ошибка, – говорит Касадевалл. – Другими словами, грибок, который вчера был готов к работе, заражал другие виды, возможно, насекомых или рептилий, но не был способен выдержать тепло человеческого тела, сегодня как-то приспособился. Теперь у нас огромная проблема. Стоит, однако, отметить, что этому могут быть и другие объяснения, – признает Касадевалл, – но в данный момент у нас их нет».
Когда в 2006 году C. auris впервые был обнаружен в ухе японского пациента, образец был отправлен в архив. Исследователи, занимавшиеся определением дрожжей, которые способны заразить человека, сделали это, чтобы в дальнейшем изучить новую инфекцию и определить, как на нее можно воздействовать20. Однако в том же году грибок был обнаружен у группы пациентов уже в Южной Корее – все страдали хроническими ушными инфекциями. Затем в 2009 году стало известно, что C. auris проник в кровоток одного пожилого пациента и двух младенцев также в Южной Корее. Выжил только один. Стало очевидно, что «ушной» грибок смертельно опасен21. К 2016 году Центр по контролю и профилактике заболеваний рассматривал C. auris уже как серьезную угрозу, поэтому рекомендовал больницам и другим учреждениям долгосрочного ухода в США быть начеку. К тому времени штаммы, похоже, уже путешествовали от одного пациента к другому, из одного медицинского учреждения в другое. Согласно одной из гипотез, грибок смог заразить слуховой проход, поскольку в нем естественным образом прохладнее, чем в остальных частях тела. Он сделал первый шаг в более терпимую среду и оказался в «парнике», то есть в нашем теле.
* * *В 2019 году Брендан Джексон, медицинский эпидемиолог из Центра по контролю и профилактике заболеваний, вместе с другими учеными агентства опубликовал работу под названием «О происхождении вида: что влияет на рост Candida auris?»22. Группа исследователей выявила четыре генетически различных вида C. auris, которые возникли «почти одновременно» в Восточной Азии, Южной Азии, Африке и Южной Америке. Большинство случаев заболевания в Соединенных Штатах, вероятно, происходило из южноазиатской популяции. Следующая работа, которую опубликовала другая группа, добавила к уже имеющейся еще одну популяцию – иранскую, поскольку заражение пошло от пациента из этой страны23. Ученые предположили, что существуют четыре местонахождения опасных «залежей», или четыре отдельные группы, которые произошли от общего предка. Это значит, что, возможно, имеется большее число видов C. auris. Такое открытие можно сравнить с другим, не менее поразительным: в конце 2019 года появилось сразу несколько различных вариантов вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, и они произошли не от одного штамма, который эволюционировал с течением долгого времени.
Когда только появились сообщения о C. auris как о новом грибке, способном вызвать заболевания у людей, Джексон отнесся к этой информации скептически. Он подумал, что, возможно, это псевдовспышка, неправильно диагностированный дрожжевой грибок, который существовал в течение многих лет, а потом был обнаружен благодаря усовершенствованию технологии выявления заболеваний. Но данные из более ранней публикации, в которой были рассмотрены более 10 тысяч образцов Candida, собранных в период с 1996 по 2009 год, ни в одном из которых C. auris не был обнаружен, быстро заставили Джексона отнестись к ситуации с большим вниманием24.
Последующий анализ образцов, собранных в период с 2004 по 2015 год, выявил всего четыре случая и только один до 2013 года. Этот грибок еще более примечателен тем, что отдельные его «залежи» настолько разбросаны по карте мира, что мы можем гадать, откуда они взялись и почему именно сейчас активно вышли на поверхность. Чтобы понять, насколько странной является модель появления C. auris, подумайте о том, что в течение нескольких месяцев после появления SARS-CoV-2 его смогли отследить до одного региона в Китае и обнаружили, что в какой-то момент времени вирус мог перейти от летучих мышей, панголинов или других диких животных к людям25. Вирус Эбола тоже возник в одном районе Центральной Африки, а затем распространился по другим регионам26. Недавно появившееся грибковое заболевание Sporothrix brasiliensis, которое передается от кошек к людям (и от кошек к кошкам), было обнаружено в Бразилии, Аргентине, Парагвае и Панаме. Впервые болезнь была выявлена в Рио-де-Жанейро в 1998 году и стала диковинкой27, однако затем благодаря кошкам распространилась по всей Америке. Нет ничего необычного в том, что болезнь возникает в одном месте и путешествует по миру (мутируя по мере распространения), но чтобы болезнетворный микроб одновременно появился в разных географических районах и имел разные генетические характеристики – это странно28.
Новый захватчик, которым стал C. auris, в 2019 году получил неожиданного союзника в распространении, и им оказался вирус SARS-CoV-2. В то время как миллионы людей попали в больницы с диагнозом COVID-19, C. auris уже терпеливо «дремал» в палатах. Все, что ему требовалось для пробуждения, – чтобы число ослабленных пациентов стало больше, а система здравоохранения смотрела в сторону, занятая борьбой с другим опасным противником29. В одной из больниц Флориды вспышка грибковой инфекции произошла во время вирусного всплеска 2020 года. Из пятнадцати выявленных случаев C. auris в двенадцати речь шла о пациентах с COVID-19. Было установлено, что вспышка произошла от одного источника, которым, возможно, стал недавно поступивший тяжелобольной пациент. Когда всплеск вирусных заболеваний спал, утихли и грибковые. По мере того как ситуация будет меняться и SARS-CoV-2 станет очередным эндемичным вирусом человека, C. auris ждет другая судьба: он не только останется угрозой, но и будет способен оказывать еще более разрушительное влияние, чем то, которое мы уже наблюдали.
* * *C. auris представляет собой тройную угрозу: он плохо реагирует на лекарства, живуч и никуда не денется с этой планеты. Но будут и другие. К счастью, большинство из нас не настолько беззащитны, чтобы дать себя заразить. Если у нас и есть какая-то суперсила против патогенов, так это иммунная система. Каждый день мы подвергаемся воздействию тысяч различных микроскопических организмов, включая десятки грибков, в том числе и дрожжевых. Кожа – наша первая линия обороны: она является физическим барьером, укрепленным вторичной сетью бактерий, грибков и других микробов, соседствующих в нашем теле. Наши легкие похожи на сложное ветвистое дерево жизни, и всего одна клетка отделяет то, что находится внутри нашего тела, от того, что снаружи. Пожалуй, легкие являются самым уязвимым органом нашего организма. Они защищены постоянно работающим биологическим конвейером из слизи, которая перемещается по нижнему слою клеток, обильно покрытых ресничками – тонкими волосковидными структурами. Слизь действует как ворсистый валик, задерживая микроскопический мусор – в том числе споры, пыль и пыльцу, – а реснитчатые клетки перемещают всю эту грязь в сторону от легких. Когда мы чихаем или кашляем, то избавляемся от слизи, содержащей мусор. Некоторые заболевания, например муковисцидоз, не позволяют этой системе работать должным образом, в результате чего больные становятся более восприимчивыми к инфекциям из-за отсутствия этого физического барьера. Наш пищеварительный тракт также выстлан клетками, вырабатывающими слизь, которые помогают защитить нас от проникновения инфекции.
Иногда даже передовые системы дают сбой, и тогда в дело вступает клеточный иммунный ответ – макрофаги, Т-клетки и другие. Они притягиваются к захватчикам, поглощают или убивают их. Некоторые имеют целый арсенал химических защитных средств, который также идет в дело. В результате нас лихорадит, и мы испытываем весь букет сопутствующих реакций, которые заставляют нас чувствовать себя плохо, но это всего лишь побочный эффект борьбы, которую ведут наши защитники. Лихорадка спасает нас от захватчиков, которые не способны выдерживать высокую температуру. Эта неспецифическая реакция позволяет выиграть время для более мощной и целенаправленной защиты – адаптивного ответа, в котором ключевую роль играют Т-клетки. Они убивают инфицированные клетки, привлекают другие и помогают регулировать иммунный ответ. Еще один тип иммунных клеток – В-лимфоциты, которые вырабатывают специфические антитела, направленные против патогена. Именно эти клетки отвечают за иммунную память – способность противостоять тем же бактериям, вирусам или грибкам во второй или третий раз. Когда мы делаем прививку, то провоцируем эту реакцию, чтобы она была готова к любым будущим воздействиям. Эта система в той или иной форме защищала позвоночных – от лягушек до людей – на протяжении сотен миллионов лет. Она не идеальна, но настолько многогранна, что в условиях, когда одна стратегия может не сработать, другая вполне способна помочь.
«Если Т-клетки не уничтожат захватчика, это сделают нейтрофилы, – считает Стюарт Левитц. – Или макрофаги. Некоторые организмы заболевают только тогда, когда у них отказывают сразу несколько защитных систем»30. Левитц – врач-инфекционист и миколог из Медицинской школы Массачусетского университета, занят изучением реакции иммунных клеток на грибки. Он любит показывать студентам-медикам мультфильм Гэри Ларсона, в котором пожарные растягивают сетку для женщины, выпрыгивающей из горящего здания. Она отскакивает и попадает через окно в другое горящее здание. «Подобным образом устроена и иммунная система у многих организмов: они выживают в одной ситуации, чтобы затем броситься в другую. Так что в этом отношении C. auris ничем не отличается от многих других грибковых патогенов, которым трудно проникнуть в организм со здоровой иммунной системой».
Раньше инвазивная грибковая инфекция была редким явлением. «Если таковой случай происходил, – вспоминает Левитц о своих первых днях в медицине, которые пришлись на 1980-е годы, – его выносили для обсуждения на конференции – вот насколько редкими были грибковые инфекции. Теперь же мы наблюдаем их постоянно»31. Причина в том, что мы живем в эпоху людей с ослабленным иммунитетом. Иммунная система увеличивающегося населения планеты в той или иной степени нарушена. Достижения в области трансплантации органов позволили бесчисленному количеству молодых и пожилых людей жить полноценной жизнью с пересаженными почками, легкими, сердцем и другими органами. Только в Соединенных Штатах ежегодно проводится около 40 тысяч операций по пересадке органов. И все эти пациенты принимают иммуноподавляющие препараты, чтобы снизить вероятность отторжения, а некоторые нуждаются в них до конца жизни. Люди, пережившие рак, в зависимости от его типа также могут жить с ослабленной иммунной системой, как и многие из нас, кто просто стареет или использует мощные стероидные препараты для борьбы с такими заболеваниями, как астма, хроническая обструктивная болезнь легких (chronic obstructive pulmonary disease, или COPD) и муковисцидоз. За фантастические достижения медицины приходится платить, и в некоторых случаях такой платой становится ослабление иммунной системы. Мы живем дольше и лучше, но становимся все более восприимчивыми к инвазивным грибкам32.
Левитц начал свою практику, когда вирус иммунодефицита человека, или ВИЧ, который вызывает СПИД, был на подъеме, но еще не достиг своего пика в США. Под ударом вируса находятся клетки CD4, или Т-клетки. Левитц так вспоминает о начале своей работы: «Мы наблюдали в больнице все эти случаи грибковой инфекции под названием Cryptococcus»33. Обычно этот грибок редко поражает иммунокомпетентные организмы, но было похоже, что ВИЧ вступил в сговор с бактериями и грибками, которые обычно не могут жить на человеке. Подавляя нашу иммунную систему, он открыл ворота и впустил оппортунистов. Левитц продолжил изучать и лечить пациентов с Cryptococcus и другими инвазивными оппортунистическими грибковыми инфекциями.
Спустя четыре десятилетия для людей, которые получают лечение, ВИЧ уже не является смертным приговором, тем не менее число инфицированных по-прежнему поразительно огромно – во всем мире противовирусную терапию получают более 28 миллионов ВИЧ-инфицированных. Это составляет около 75 % всех людей с вирусом, то есть 9,7 миллиона человек не лечатся, к тому же каждый год диагностируется еще несколько миллионов заболевших34. Также от криптококкового менингита ежегодно умирают сотни тысяч людей. Вирус СПИДа, а также рост числа людей с ослабленным иммунитетом и активное использование антибиотиков создали благодатную почву для оппортунистических инфекций. Единственным выходом в обстоятельствах, когда наши естественные защитные силы не справляются или не могут ответить, становятся противогрибковые препараты.
Работу противогрибковых препаратов можно сравнить с химической войной, которая ведется на микроскопическом поле. Хитрость заключается в том, чтобы уничтожить врага, оставив невредимыми мирных жителей, что может быть непросто, учитывая, что их бывает трудно отличить друг от друга. Несмотря на сходство между дрожжами и бактериями, грибы в большей степени близки к животным. Например, и наши клетки, и грибковые являются эукариотическими, при этом у нас генетический материал находится в ядре, и это то, что отличает клетки человека от других, допустим бактериальных. И наши, и грибковые клетки также имеют общую структуру и схожий состав, что, в свою очередь, затрудняет уничтожение грибковых клеток без вреда для наших собственных. Несмотря на это, антибиотики, такие как пенициллин, относительно безопасны, поскольку их действие направлено на компонент клеточной стенки бактерий, которого у нас нет. Мощный противогрибковый препарат амфотерицин B, появившийся на рынке в 1959 году, стал настоящим спасением. Он действует, создавая дыры в мембранах грибковых клеток и нарушая их нормальное функционирование. Одной из мишеней для противогрибковых препаратов, таких как амфотерицин, является химическое вещество эргостерол, которое необходимо грибкам для создания мембран, окружающих их клетки. В мембранах наших клеток эргостерола нет, зато есть холестерин. Эти две молекулы имеют во многом схожую химическую структуру, поэтому химическое вещество, воздействующее на одну из них, может случайно воздействовать и на другую, вызывая потенциально смертельные побочные эффекты, такие как почечная недостаточность. Левитц говорит, что врачи назвали этот процесс «амфоужасным»35, то есть катастрофическим для обеих сторон. Сейчас доступны менее токсичные составы, а также другие, не настолько токсичные классы противогрибковых препаратов. Однако их не так много.
Препараты принято классифицировать по способу уничтожения или по тому, на какую часть клетки или клеточного механизма направлено их действие. Существуют три основных класса противогрибковых препаратов, используемых для лечения системных инфекций: полиены (к которым относятся амфотерицин и нистатин), азолы и эхинокандины. Для сравнения: существует более десятка классов антибиотиков, направленных против бактерий. Амфотерицин действует на сам эргостерол. Азолы – на фермент, с помощью которого грибки его производят (к слову, в нашем организме есть похожий фермент, на который некоторые азольные препараты также могут воздействовать). Эхинокандины не позволяют грибкам производить еще одно важное химическое вещество, задействуемое для построения клеточной стенки грибов, – 1,3-β-d-глюкан36. Наши клетки не используют эту молекулу, что позволяет снизить риск побочных эффектов.
Антибиотики и противогрибковые препараты – это мощные лекарственные средства. Однако и те и другие теряют свою эффективность, когда их мишени – бактерии и грибки – развивают устойчивость к воздействию. Болезнетворные бактерии, захватывая наш организм, начинают размножаться, и чаще всего в результате этого мы заболеваем. Каждый раз, когда клетка воспроизводится (это относится и к нашим собственным клеткам), ДНК реплицируется, а затем делится на новые дочерние клетки. Это происходит независимо от того, создают ли клетки клонов или размножаются половым путем. При воспроизведении ДНК неизбежны ошибки, или мутации, одни из которых не оказывают большого влияния на жизнь клетки, некоторые способны к самопочинке, а других хватает, чтобы клетку убить. Есть и полезные мутации, например изменение существующего фермента, которое позволяет клетке детоксицировать и выживать под воздействием смертельных химических веществ, включая антибиотики и противогрибковые препараты (для микробов-мишеней это смертельные химикаты). К полезным также можно отнести мутацию, которая позволяет клетке выкачивать вредные химические вещества, и изменение белка, который приобретает способность скрывать ключевую молекулу, на которую направлено действие лекарства.
Новые мутации – это лишь один из способов, с помощью которого микробы развивают устойчивость к лекарствам, которыми мы пользуемся. Микроб также может получить устойчивость от других микробов, например, бактерии известны тем, что способны делиться генами устойчивости. Ученые обнаружили, что в некоторых случаях гены, придающие устойчивость к некоторым из современных лекарств (особенно к тем, что получены из природной среды, включая многие из наших антибиотиков), существовали тысячелетиями – они развились в бактериях задолго до того, как мы начали задавливать их антибиотиками37. Но для выживания не всегда нужны гены устойчивости. Некоторые микробы и грибки, включая C. auris, могут сохранять свою работоспособность под воздействием лекарств и других неблагоприятных факторов окружающей среды, потому что образуют биопленки – микробные коллективы, в которых бактериальные или грибковые клетки, находящиеся снаружи, жертвуют собой, чтобы защитить клетки внутри38. К таким биопленкам можно отнести зубной налет во рту или тину, которая покрывает поверхность пруда. Биопленки являются отличительной чертой резистентности, поскольку через них трудно проникнуть лекарствам и другим химическим веществам, например дезинфицирующим средствам.

