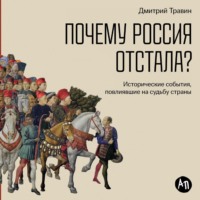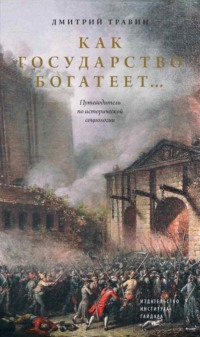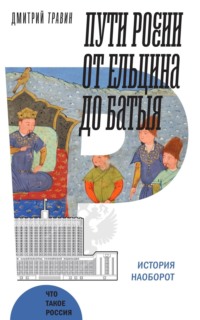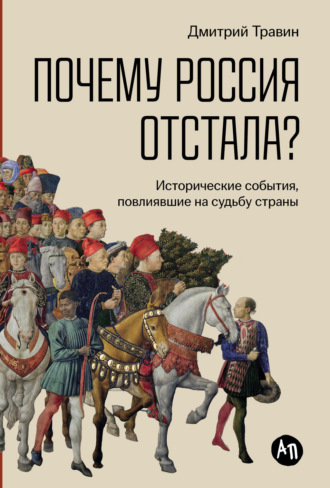
Полная версия
Почему Россия отстала? Исторические события, повлиявшие на судьбу страны
Напротив, разрушения, приносимые набегами, предела не имеют. Разрушитель стремится захватить побольше денег, рабов и ценных вещей, а в дальнейшем перебраться на новое, еще не разоренное набегами место. Для предотвращения разрушений государства, страдающие от набегов, могут прибегнуть к выплате дани, что часто становится неподъемной ношей для их развивающихся экономик. Однако даже дань не способна гарантировать сохранности городов и обретения возможностей для развития торговли. Время от времени очередные набеги вновь приводят к катастрофическим разрушениям. Никакого развития не происходит. Жизнь стоит на месте. Максимум, чего удается добиться, – это сохранить от грабежей и погромов какой-то минимум имущества.
На протяжении ряда веков Европа страдала от разрушительных набегов. Со временем народы, их совершавшие, оседали на захваченных землях, проникались идеями цивилизации, переходили к иному образу жизни, меняли седла на замки и дворцы, а непрерывную скачку или плавание по морям – на прелести спокойного существования. Но тут появлялись новые агрессоры, цивилизующиеся земли захлестывала очередная волна набегов, и все начиналось сначала. Не будем сейчас подробно вдаваться в эту трагическую историю[4]. Остановимся на ее завершающей части («второй волне»), поскольку в науке доминирует представление о том, что именно она «принесла больше ущерба и имела более катастрофические последствия»{53}.
В кольце врагов
В период, предшествовавший началу второго тысячелетия (примерно с VIII до X в.), различные регионы Европы страдали от набегов, осуществлявшихся по трем направлениям. С севера, со Скандинавии, надвигались норманны (викинги). С юга, из Африки, европейцам угрожали арабы (сарацины). С Востока, из диких степей, слабую, неустойчивую цивилизацию атаковали венгры (мадьяры).
Мощная (казалось бы) Каролингская империя оказалась совершенно не способна сопротивляться набегам. «У нее не было ни постоянной армии, ни флота, ни прочных фортификаций, ни финансов, достойных этого названия, ни даже, вероятно, подлинной поддержки со стороны народа»{54}. Поэтому набег часто оборачивался не сражениями, а бегством, гибелью или пленом.
«Завидев корабли под полосатыми или красными парусами с головами драконов и зверей на высоко вздымавшихся форштевнях, жители приморских районов Англии и Ирландии, Франции и Германии бросали дома и поля и спешили укрыться в лесах вместе со своим домашним скарбом и скотом, – так ярко описывал многочисленные нападения викингов известный российский историк Арон Гуревич. – Замешкавшиеся погибали под ударами боевых топоров пришельцев или становились их пленниками. Вместе с награбленным имуществом их грузили на корабли и увозили на север. Все, что пираты не могли захватить с собой, уничтожалось: скот убивали, дома сжигали»{55}. Поджог и полное уничтожение разграбляемого населенного пункта вызывались, как правило, чисто военной необходимостью. Иногда огонь помогал осаде города, но в основном использовался при отступлении ради того, чтобы отвлечь противника, заставить его спасать остатки своего имущества, а не преследовать уходящих с добычей грабителей{56}.
Суровый климат северных стран, где издавна жили норманны, вынуждал их искать альтернативные сельскому хозяйству способы прокормления. Разбой и пиратство, иногда сочетавшиеся с торговлей, а впоследствии эмиграция в страны, где «с каждого стебля капает масло», стали естественным механизмом выживания{57}.
Причем образ жизни викингов, их умение строить корабли и опыт постоянного плавания по морям сильно способствовали успешным набегам. Передвигались норманны быстро, могли высадиться в неожиданной точке суши, подняться вверх по реке, а потому никакие войска не способны были предотвратить «десантную операцию»{58}.
Горячие северные парни с колоритными именами, такими как Харальд Боевой Зуб, Бьерн Железный Бок, Рагнар Кожаные Штаны, Эйрик Кровавая Секира, Сигурд Свинья, Эйнар Брюхотряс, Свейн Вилобородый, Харальд Серая Шкура, Магнус Голоногий, Сигтрюгг Шелковая Борода и т. п.{59}, прошлись огнем и мечом по значительной части Европы. Среди норманнов даже «почтенные люди», не промышлявшие постоянно разбоем, временами (по мере надобности или желания) отправлялись в грабительские набеги на двух-трех судах. Порой не к дальним врагам, а к соседям и даже к соплеменникам{60}.
В конце VIII в. викинги атаковали Англию с севера, разграбив ряд монастырей. Но это была лишь прелюдия к тому колоссальному «концерту», который они устроили примерно полстолетия спустя. «История викингских походов после 834–835 гг. оставляет устойчивое впечатление, что с этого момента они превращаются в своего рода "организованное мероприятие"»{61}. Большой набег на Кент в 835 г. положил начало трем страшным десятилетиям, когда нападения на английские земли происходили почти ежегодно. В конечном счете все увенчалось полномасштабным завоевательным походом. В 865 г. датчане высадились в Восточной Англии. Война с ними шла долгое время с переменным успехом, отчего неизбежно страдала слабая экономика острова. Наконец в 893 г. большое датское войско высадилось в устье Темзы и грабило местное население на протяжении следующих трех лет.
Очередной этап осуществления погромов настал к концу X столетия. Датчане собрали чрезвычайно сильную армию, которая раз за разом наносила поражения плохо организованному эссекскому ополчению. В итоге англичанам приходилось постоянно откупаться от агрессоров{62}. Так, например, в 980 г. датчане получили огромную сумму – 10 000 фунтов серебра, в 994 г. – плата возросла до 16 000, а к 1002 г. – до 24 000. Дальше размер так называемых «датских денег» продолжал нарастать. В 1007 г. он составил 36 000, а в 1012 г. – 48 000 фунтов и, наконец, в 1018 г. – 72 000{63}. Можно представить себе трудности, которые приходилось претерпевать хозяйству, обложенному столь высокой данью. Ни о каком нормальном развитии в то время не могло идти речи. Только о выживании. Во Франции, согласно имеющимся данным, бремя «датских денег» было несколько меньше – в совокупности около 40 000 фунтов, но сведения есть лишь о 7 платежах из 13{64}.
Постоянный грабеж происходил и в Ирландии. Хронист говорил, что «невозможно передать всех страданий, которые вынес ирландский народ, мужчины и женщины, миряне и священники, малые и старые, от этих воинственных и диких язычников»{65}. Естественно, сведения обо всех совершаемых викингами жестокостях не сохранились в деталях, но кое-что об их нравах нам может рассказать история про некоего Ульва по прозвищу Пугало, решившего расправиться со своим пленным врагом. Он «вспорол ему живот, привязал конец кишок к дубу и стал водить его вокруг, пока все кишки не намотались на дерево»{66}. Лишь после этого несчастный скончался.
Норманны проникали даже в Южную Европу. В 40-х гг. IX в. викинги дошли до Пиренейского полуострова, две недели грабили Лиссабон, а потом атаковали Севилью{67}. В 860 г. они напали даже на Пизу, находящуюся в Италии. А для того, чтобы захватить маленький приморский городок, который они по неосведомленности приняли за Рим, норманны пошли на интригующий ход, сравнимый со знаменитым троянским конем, придуманным Одиссеем ради проникновения в Трою. Норманны направили послов с известием о внезапной смерти своего вождя и с просьбой совершить над ним погребальную службу по христианскому обряду. С разрешения епископа гроб с телом был внесен сподвижниками вождя в город. Однако вместо того, чтобы отправиться в мир иной, «покойник» вдруг вскочил и убил епископа, а свита набросилась на горожан и их имущество. Когда же стало ясно, что сей населенный пункт отнюдь не Рим, норманны решили сжечь город{68}.
Переправившись через Гибралтар, викинги слегка пограбили Северную Африку, увезя с собой «в качестве сувениров» синих людей (blámenn) – по всей видимости, негров{69}. Но главным объектом их деятельности, естественно, оставалась богатая Европа. Норманны «снова и снова появлялись на ее северном и западном побережьях, поднимаясь на своих быстроходных маленьких судах вверх по речным руслам, проникая вглубь страны и грабя прежде всего монастыри и города на пространстве от Гаронны до Эльбы. Под их натиском пали и прекратили свое существование такие известные торговые центры, как Дорестад и Квентовик. Нант и Руан, Гамбург и Париж, Орлеан и Утрехт, а также многие другие города и монастыри тяжело страдали от этих нападений. С момента высадки сильного норманнского войска во Фландрии в 878 году набеги принимали всё более опасные формы. ‹…› В 881–882 годах разграбили, например, Кёльн, Бонн и Ахен[5]. В 885–886 годах они (норманны. – Д. Т.) вновь угрожали Парижу до тех пор, пока Карл III в конце 886 года не выплатил за их уход большую сумму, предоставив им сверх того еще и зимний постой в Бургундии. ‹…› Для Западной же Франкии норманнская угроза продолжала существовать до тех пор, пока Карл Простоватый, заключая в 911 году мир в Сен-Клер-сюр-Эпте, не передал норманнскому вождю Роллону (иначе говоря, Ролло, Рольфу или Хрольву. – Д. Т.) земли в низовьях Сены, названные по имени их новых владельцев Нормандией»{70}.
В связи с тем, что норманны осели на постоянное жительство в Нормандии, стала происходить существенная трансформация системы разбоя (в терминах Оппенгеймера). «Грабеж без разбора, характерный для предшествующего времени, сменялся масштабной системой поборов»{71}. Как отмечал американский социолог Мансур Олсон, в такой ситуации происходит превращение кочующего[6] бандита в стационарного. Разбойник начинает понимать, что ему гораздо выгоднее не забирать все имущество у покоренного населения, одновременно сжигая то, что нельзя унести с собой, а отнимать в виде дани лишь некоторую часть, сохраняя у ограбленных людей стимулы к работе. Тогда можно будет постоянно «стричь шерстку» у населения, и это в конечном счете окажется выгодно самому же разбойнику. Более того, стационарный бандит в такой ситуации начинает защищать покоренное население от «конкурентов» (других бандитов), желающих их полностью ограбить или, по крайней мере, взять с них дань. В итоге стационарный бандит надевает корону, становится самодержцем, передает по наследству детям возможность постоянно грабить подвластное население и утверждает, что делает это в соответствии с божественным правом, а не просто по праву сильного{72}.
Роллон, превратившийся из кочующего бандита в стационарного, дал мир сельским жителям и стал заботиться о процветании своих владений{73}. Похожим образом обстояло дело и в Англии. Викинги стали постоянно править Нортумбрией и Йорком после 880 г. А Ирландией – примерно с 910-х гг.{74} Тем не менее в целом даже постепенный переход к оседлости полностью не остановил дерзких и жестоких норманнских атак.
В конце X в., когда формирующееся германское государство на время ослабло из-за малолетства Оттона III, северное побережье подверглось очередной волне набегов, которым долгое время не удавалось дать по-настоящему эффективный отпор{75}
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Компаративистика имеет большое значение для понимания важных проблем истории. Многие известные авторы так или иначе занимались сравнениями в своих научных трудах (Кром 2015).
2
Есть много типичных ошибок, которых следует избегать в размышлениях о том, почему Россия отстала. Но все здесь упоминать не стоит. Подробнее я написал о них в другом месте (Травин 2021).
3
О модернизации как научной категории можно прочесть в других моих работах (Травин, Маргания 2004а: 18–124; Травин 2015а: 11–19; Травин 2019а).
4
Подробный рассказ о первоначальном этапе набегов на Европу см., например, в книге А. Корсунского и Р. Гюнтера (Корсунский, Гюнтер 1984).
5
В Ахене норманны сожгли даже гробницу императора Карла Великого – этот своеобразный символ мощи европейцев (Ле Гофф 1992: 47).
6
Понятие «кочующий бандит» не означает обязательно кочевника, постоянно переселяющегося с места на место. Норманны, например, не были кочевниками. Имеется в виду, что кочевой бандит, в отличие от стационарного, приходит и уходит, не остается на захваченном месте.
Комментарии
1
Травин 2023.
2
Сергеев 2023: 54.
3
Марасинова 2008: 258.
4
Ключевский 1989б: 308.
5
Гордон. 2005: 109.
6
Марасинова 2008: 257–258.
7
Там же: 259–260.
8
Ключевский 1989а: 103.
9
Тоуни 2023: 416.
10
Валлерстайн 2016: 112.
11
Дэвидс 2019: 82.
12
Кояма, Рубин 2024: 137.
13
Богданов 2020: 275–279, 595–612.
14
Коллманн 2001: 219–220.
15
Сен-Симон 2007: 405, 464–465.
16
Сен-Симон 2016б: 681–682.
17
Там же: 100–109, 129–131, 408–409, 430.
18
Сен-Симон 2016а: 76–79, 86–95, 121, 131.
19
Живов 2018: 79–80.
20
Травин 2023.
21
Анисимов 1999: 219.
22
Там же: 187.
23
Репина 1999: 95–96, 102.
24
Мосолкина 2017: 205–206.
25
Хачатурян 1999: 323, 326.
26
Травин 2023.
27
Кайзер 2024: 113.
28
Там же: 135.
29
Там же: 209–212, 223–225.
30
Ключевский 1989б: 375–376.
31
По 2024: 17–20.
32
Там же: 14.
33
Там же: 21.
34
Там же: 62.
35
Там же: 110.
36
Травин 2004; Травин 2008; Травин 2010а; Травин 2016а; Травин, Гельман, Заостровцев 2017.
37
Миронов 2015а: 623.
38
Травин 2018а.
39
Блок 1986: 29.
40
Тойнби 1991: 106–142.
41
Травин 2010б; Травин 2013; Травин 2014; Травин 2016б.
42
Фейерабенд 2007.
43
Травин, Маргания 2004а; Травин, Маргания 2004б; Травин, Маргания 2011.
44
Лихачев 1987: 245.
45
Оппенгеймер 2020: 76.
46
Маркс, Энгельс 1948: 8–39.
47
Маркс 1978: 773.
48
Хобсбаум 2020: 47–52.
49
Оппенгеймер 2020: 77–78.
50
Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011.
51
Бетелл 2008: 20.
52
Скотт 2020: 248.
53
Эрс 2019: 13.
54
Мюссе 2001: 141.
55
Гуревич 2007: 82.
56
Буайе 2017: 95.
57
Гуревич 2007: 100–101.
58
Хейвуд 2020: 75.
59
Джонс 2007: 39, 212, 241, 364, 373, 398, 400, 417, 422.
60
Сванидзе 2014: 162.
61
Джонс 2007: 204
62
Морган 2008: 84–101.
63
Арбман 2008: 111–112.
64
Там же: 136.
65
Цит. по: Гуревич 2007: 126.
66
Каппер 2003: 60.
67
Джонс 2007: 210.
68
Гуревич 2007: 137; Джонс 2007: 215.
69
Джонс 2007: 214.
70
Флекенштейн, Бульст-Тиле, Йордан 2008: 13–14.
71
Арбман 2008: 136.
72
Олсон 2012: 33–39.
73
Джонс 2007: 231.
74
Роэсдаль 2001: 208.
75
Флекенштейн, Бульст-Тиле, Йордан 2008: 114.