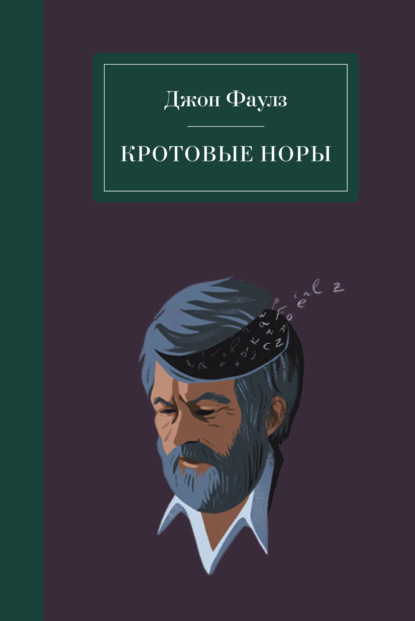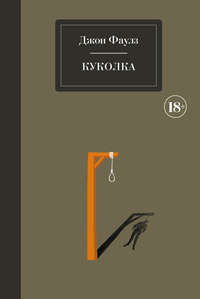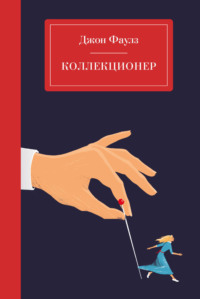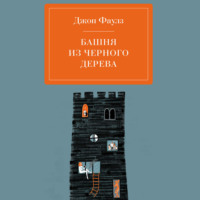Полная версия
Женщина французского лейтенанта

Джон Фаулз
Женщина французского лейтенанта
Всякая эмансипация состоит в том, что она возвращает человеческий мир и человеческие отношения самому человеку.
Карл Маркс. К еврейскому вопросу (1844)1
На запад лишьВ даль морскуюТвой взгляд устремлен,В ненастье и тишь,Тайны взыскуя,Похожей на сон;Так ты стоишьС давних времен,Ног под собой не чуя.Томас Харди. ЗагадкаХуже восточного ветра в заливе Лайм ничего не бывает – этот залив отхватил самый большой кусок от нижней части ноги, которую Англия выпростала в юго-западном направлении, – и любой зевака выдвинул бы не одну серьезную гипотезу по поводу парочки, которая прохаживалась по набережной Лайм-Риджиса, маленького древнего эпонима этого огрызка, на редкость ветреным и пронизывающим утром позднего марта 1867 года.
Мыс Кобб приучал постоянных наблюдателей к своему виду на протяжении по меньшей мере семи столетий и для жителей Лайма был всего-навсего древней серой стеной в виде длинной лапы, принимающей на себя морские вызовы. А поскольку он расположен вдалеке от главного городка – такой крошечный Пирей по отношению к микроскопическим Афинам, – они почти перестали смотреть в его сторону. За все эти годы им пришлось изрядно раскошелиться на ремонт, чем до известной степени объяснялась их некоторая неприязнь. Но для не столь придирчивого взгляда стороннего налогоплательщика он из себя представлял красивейший морской вал на южном побережье Великобритании. И не столько потому, что, как говорится в путеводителях, от него веет семисотлетней английской историей, или что именно отсюда отплывал флот навстречу Армаде, или что на берег неподалеку отсюда высадился Монмут…[1] а просто это великолепный образчик народного искусства.
Примитивный, но достаточно сложный; слоноподобный и при этом изящный; тонкие изгибы и формы, как у Генри Мура или Микеланджело; весь из чистой прозрачной соли, само олицетворение массы. Я преувеличиваю? Возможно. Но меня легко проверить, поскольку Кобб почти не изменился со времени моего описания, в отличие от Лайма, поэтому, если развернуться лицом к берегу, проверка будет выглядеть некорректной.
А вот если бы вы развернулись к берегу, то есть в сторону севера, в 1867 году, как это сделал в тот день мужчина, вашему взору открылся бы очень гармоничный вид. Живописное скопление десятка домов и пристроившаяся у основания мола скромная лодочная мастерская, где, подобно арке, на стапели вздымалась грудная клетка парусного судна. В полумиле к востоку, среди покатых лугов, виднелись соломенные и черепичные крыши Лайма, городка, пережившего свой расцвет в Средние века и с тех пор постепенно приходившего в упадок. К западу мрачные серые утесы, получившие у местных название Бдительной гряды, отвесно торчали над галечным берегом, на который Монмут сошел когда-то в помрачении рассудка. За грядой, еще дальше от моря, толпились другие утесы, замаскированные густыми лесами. Так что Кобб представлялся последним оплотом дикого, постепенно разрушаемого берега. Это тоже легко проверить. Ни тогда, ни сейчас в этой стороне не просматривалось ни одного жилого дома, если не считать прибрежных хижин.
Местный шпион, а таковой присутствовал, мог бы сделать вывод, что эти двое – приезжие, люди со вкусом, пожелавшие насладиться видами, невзирая на ветродуй. Однако телескоп с сильным увеличением позволил бы ему предположить, что одиночество вдвоем интересует их куда больше, чем морская архитектура, и он наверняка отметил бы, что, судя по их внешнему виду, они принадлежат к высшей касте.
Молодая дама была одета по последнему писку моды с учетом того, что в 1867 году подул новый ветер: женщины восстали против кринолина и больших шляп. Телескоп позволял увидеть пурпурную юбку, вызывающе узкую и достаточно короткую, так как из-под нее и сочно-зеленой накидки выглядывали белые щиколотки в черных ботинках, деликатно цокавших по камням, убранный под сеточку шиньон венчала нескромная шляпка с круглой плоской тульей и загнутыми кверху полями, а сбоку изящный пучок перышек цапли – шляпный стиль, какой местные дамы не рискнут себе позволить по меньшей мере еще год. А высокий джентльмен в безукоризненном светло-сером костюме и с цилиндром в свободной руке радикально укоротил бакенбарды, что арбитры английской мужской моды еще год или два назад расценили бы как некоторую вульгарность, присущую разве что иностранцу. Даже сегодня цвета одежды этой дамы многие сочли бы смелыми, но надо учесть, что мир тогда с удивлением открывал для себя анилиновые красители, и женский пол, компенсируя всевозможные запреты, требовал от наряда не столько скромности, сколько блеска.
Но кто по-настоящему озадачил бы вооруженного телескопом наблюдателя, так это еще одна фигура. Она стояла в самой дальней точке сурового изогнутого мола, опираясь на ствол торчащей вверх старинной пушки, издали напоминавшей швартовую тумбу. Она была во всем черном. Ветер развевал ее одежды, но она, не шевелясь, все глядела, глядела в море, больше похожая на живой мемориал утопленникам, мифологическую фигуру, чем на неотъемлемую часть заурядного провинциального дня.
2
В том году (1851) население Великобритании составляло 8 155 000 женщин старше десяти лет и 7 600 000 мужчин. Из чего следует, что если общепринятая судьба викторианской девушки заключалась в том, чтобы стать женой и матерью, то она должна была столкнуться с нехваткой женихов.
Э. Ройстон Пайк. Человеческие документы викторианского золотого векаСеребряный парус раскину,Уйду от родимой земли;Фальшивой слезой сверкнете за мной,Когда я исчезну вдали.Народная песня «Провожая Сильвию»– Моя дорогая Тина, мы уже воздали должное Нептуну. Он нас простит, если мы сейчас повернемся к нему спиной.
– Вы не очень-то галантны.
– Простите, вы это к чему?
– Мне казалось, что вы желаете продлить возможность подержать меня за руку, и вдруг подобная бесцеремонность.
– Вы стали такой чувствительной.
– Мы же не в Лондоне.
– У Северного полюса, если не ошибаюсь.
– Я хочу дойти до самого конца.
Мужчина с выражением отчаяния на лице, как будто материковая часть теперь для него навсегда закрыта, снова развернулся, и пара продолжила свой променад по молу.
– А еще я хочу знать, что произошло между вами и папа в прошлый четверг.
– Ваша тетушка уже вытянула из меня все подробности этого приятного вечера.
Девушка остановилась и заглянула ему в глаза.
– Чарльз! Чарльз, вы можете быть сухим как палка со всеми вокруг. Но только не со мной.
– Дорогая, но как нам тогда склеиться в священном браке?
– А свои шуточки вы придержите для одноклубников. – Она повлекла его за собой. – Я получила письмо.
– А-а. Были у меня такие опасения. От мама?
– Я знаю, что-то произошло… за портвейном.
Они молча прошли несколько шагов, прежде чем он решил ответить. На мгновение показалось, что Чарльз намеревался взять серьезный тон, но передумал.
– Признаюсь, у меня с вашим достойным отцом вышел небольшой философский спор.
– Весьма дурно с вашей стороны.
– Я старался быть предельно честным.
– И что же вы обсуждали?
– Ваш отец высказал мнение, что мистера Дарвина следовало бы выставить в зоологическом саду. В клетке для обезьян. Я постарался привести научные аргументы в пользу позиции Дарвина, но безуспешно.Et voilà tout[2].
– Как вы могли? Зная папины взгляды!
– Я был предельно уважителен.
– То есть предельно некорректны.
– Он действительно сказал, что не отдаст свою дочь за человека, который считает ее деда обезьяной. Но, я думаю, по зрелом размышлении он вспомнит, что в моем случае речь идет о титулованной обезьяне.
Она бросила на него быстрый взгляд и, не сбавляя шага, отвернулась, слегка склонив голову набок; этим характерным жестом она обычно выражала свою озабоченность, в данную же минуту это относилось к главному, в ее представлении, препятствию на пути к их помолвке. При том что ее отец нажил огромное состояние, ее дед был простым драпировщиком, тогда как дед Чарльза был баронетом. Он улыбнулся и свободной рукой слегка прижал женскую ручку в перчатке, державшую его под локоть.
– Дорогая, мы уже разобрались. Вы испытываете страх перед отцом – это совершенно нормально. Но женюсь я не на нем. И вы забываете, что я ученый. Я как-никак написал монографию. А если вы будете вот так улыбаться, то я посвящу все свое время окаменелостям, а не вам.
– Я не расположена вас ревновать к окаменелостям. – Она взяла искусную паузу. – Вы по ним ступаете по меньшей мере уже целую минуту и даже не удосужились заметить.
Он кинул взгляд себе под ноги и стремительно опустился на колени. В Коббе здесь и там обнаруживаются ископаемые останки.
– Господи, вы только гляньте.Certhidium portlandicum. Это же оолит из Портленда.
– В чьих каменоломнях я вас похороню навечно, если вы сию же минуту не встанете.
Он с улыбкой подчинился.
– Это я привела вас сюда, а вы не цените. Смотрите. – Она подвела его к краю вала, где плоские камни, врезающиеся в стену, служили своего рода грубыми ступенями к прогулочной дорожке ниже уровнем. – С этих самых ступенек Джейн Остин столкнула Луизу Масгроув в «Доводах рассудка».
– Как романтично.
– Джентльмены были романтиками… тогда.
– А нынче стали учеными? Ну что, рискнем спуститься?
– Когда пойдем назад.
Они продолжили путь. Только сейчас он заметил – или, по крайней мере, осознал – половую принадлежность фигуры на конце мола.
– Мать честная. Я думал, это рыбак, а ведь это женщина!
Эрнестина обратила в ту сторону свои красивые серые глаза, вот только она была близорука и потому различала лишь темный силуэт.
– Молодая?
– Отсюда не разберешь.
– Кажется, я догадываюсь. Это, вероятно, Трагедия, бедняжка.
– Трагедия?
– Ее прозвище. Одно из многих.
– А другие?
– Рыбаки дали ей грубое имя.
– Тина, дорогая, вы можете мне смело…
– Они ее называют… женщиной французского лейтенанта.
– Да уж. Она такой изгой, что приходится целыми днями стоять на пирсе?
– Она… немного не в себе. Давайте повернем назад. Я не хочу к ней приближаться.
Они остановились. Он вглядывался в черную фигуру.
– Вы меня заинтриговали. Кто этот французский лейтенант?
– Мужчина, которого она…
– Полюбила?
– Хуже.
– Он ее бросил? Остался ребенок?
– Кажется, ребенка нет. Всё сплетни.
– Но что она здесь делает?
– Говорят, ждет его возвращения.
– И… за ней никто не присматривает?
– Она служит у старой миссис Поултни. Но во время наших визитов я ее ни разу не видела. Хотя она там живет. Давайте вернемся, я вас прошу. Мы с ней не знакомы.
Он улыбнулся.
– Если она на вас набросится, я вас защищу, и вы убедитесь, что я не лишен галантности. Идемте.
Они приблизились к фигуре возле пушечного ствола. Женщина держала свою шляпку в руке, а ее волосы были плотно заткнуты назад под воротник довольно странного черного жакета, больше похожего на мужскую охотничью куртку, чем на деталь женского туалета, если говорить о моде последних сорока лет. Хотя она тоже не носила кринолина, было очевидно, что это никак не связано с последними лондонскими веяниями, а просто по забывчивости. Чарльз громко произнес какую-то банальность, тем самым давая женщине понять, что она больше не одна, однако та не отреагировала. Они подошли к точке, откуда был виден ее профиль и взгляд, нацеленный, как винтовка, к горизонту. Из-за сильного порыва ветра Чарльзу пришлось поддержать Эрнестину за талию, а незнакомка еще сильнее вцепилась в пушечный ствол. Сам не зная зачем, возможно чтобы показать своей подруге, как гоняют гусей, он шагнул вперед, как только ветер немного стих.
– Госпожа, мы тревожимся за вашу безопасность. Если ветер усилится…
Она повернулась и посмотрела на него или, как ему показалось, сквозь него. В этот момент его память зафиксировала не столько ее черты как таковые, сколько то, чего он совсем не ждал, – в ту эпоху женское лицо должно было выражать скромность, покорность и стыдливость. Чарльз испытал такое чувство, словно он вторгся на запретную территорию: это лицо принадлежало мысу Кобб, а никак не старинному городку Лайм. Она не была хороша собой, как Эрнестина. Ее лицо ни по каким стандартам или вкусам не назовешь красивым. Но это было незабываемое, трагическое лицо. Из него струилась печаль, такая же чистая, естественная и непреходящая, как вода в лесном ключе. Ни наигрыша, ни ханжества, ни истерии, ни маски и, главное, никаких признаков безумия. Безумными скорее выглядели пустое море и пустой горизонт – не дававшими повода для печали; как будто явление весны естественно само по себе, исключая пустыню.
Впоследствии Чарльз снова и снова уподоблял этот взгляд копью, имея в виду не только предмет, но и производимый им эффект. На короткое мгновение он ощутил себя вероломным врагом, пронзенным и по заслугам низвергнутым.
Женщина ничего не ответила. Ее взгляд задержался на нем не больше чем на две-три секунды, а затем она вновь обратила его к югу. Эрнестина схватила его за рукав, и он, пожав плечами, повернулся к ней с улыбкой. Когда они уже покидали мол, Чарльз сказал:
– Зря вы мне сообщили эти низменные подробности. Вот в чем беда провинциальной жизни. Все про всех известно, и не остается никакой тайны. Никакой романтики.
В ответ она его подколола:
– Вы же ученый, вы презираете романы.
3
Но еще важнее другое соображение, что все главнейшие черты организации любого живого существа определяются наследственностью; отсюда многие черты строения не связаны в настоящее время непосредственно с современным образом жизни, хотя каждое создание, несомненно, хорошо приспособлено к занимаемому им месту в природе.
Чарльз Дарвин. Происхождение видов (1859)Из всех десятилетий нашей истории человек мудрый предпочел бы провести свою молодость в 1850-х.
Дж. М. Янг. Портрет векаПосле обеда в гостинице «Белый лев» Чарльз разглядывал себя в зеркале. Его блуждающие мысли с трудом поддаются описанию. Они крутились вокруг малопонятных вещей, связанных со смутным ощущением собственного поражения, не имеющим прямого отношения к неожиданной встрече в Коббе. Чарльз перебирал в уме всякие мелочи из разговора за обедом с тетушкой Трантер, когда он сознательно уходил от каких-то тем: в полной ли мере его интерес к палеонтологии раскрывает его природные способности; сумеет ли Эрнестина когда-нибудь понять его так, как он понимает ее; не испытывает ли он чувство бесцельности от одной мысли, что впереди тягучий дождливый день. Не будем забывать, на дворе у нас 1867 год. Ему еще нет тридцати трех. И жизнь ставит перед ним бесконечные вопросы.
Чарльз, видевший себя молодым ученым, вероятно, не так сильно удивился бы, узнав новости из будущего о самолете, реактивном двигателе, телевизоре и радаре; но вот что его точно обескуражило бы, так это совсем другое отношение ко времени. Страшной бедой нашей эпохи считается его нехватка. Наши чувства – поскольку это не вопрос бескорыстной любви к науке и уж точно не особая мудрость – порождают вопрос: почему мы посвящаем столько изобретательности и немалые общественные деньги тому, чтобы ускорить разные процессы? Как будто наша конечная цель – не приблизиться к более совершенному человечеству, а уподобиться молнии. А вот для Чарльза и людей его круга темп человеческого существования твердо определялся словомадажио. Проблема заключалась не в том, чтобы вместить в отпущенное тебе время все, что ты вознамерился сделать, а в том, чтобы это как-то растянуть под длинной колоннадой нерастраченного досуга.
В наши дни одним из самых распространенных симптомов богатства являются всякие неврозы; а в ту эпоху главным его симптомом была безмятежная скука. Это правда, что волна революций 1848 года и память о ныне забытых чартистах тогда стояли за спиной современников зловещей тенью, однако для многих, в том числе для Чарльза, самым существенным в этих отдаленных перекатах было то, что они не привели к взрыву. Шестидесятые были безоговорочно тучными годами, и благоденствие, свалившееся на класс ремесленников и даже рабочих, сделало вероятность революции, по крайней мере в Великобритании, практически немыслимой. Само собой разумеется, Чарльз не имел ни малейшего представления о том, что в это самое время в библиотеке Британского музея один бородатый немецкий еврей тихо работал и что его труды в этих величественных стенах принесут столь яркий красный плод. Если бы вы описали Чарльзу сей фрукт или то, как вскоре его станут поглощать все без разбора, он бы вам не поверил, хотя всего через каких-нибудь шесть месяцев после этого мартовского дня 1867 года в Гамбурге выйдет первый том «Капитала».
Но было еще множество личных причин, по которым Чарльз не годился на удобную роль пессимиста. Его дед, баронет, попал во вторую из двух больших категорий английского поместного эсквайра: любители кларета, они же охотники на лис, они же ученые – собиратели всего, что рождено под солнцем. В основном он собирал книги, но в зрелые годы бросил деньги и, главное, терпение семьи на раскопки безобидных холмиков, покрывавших, наподобие прыщей, три тысячи акров его земли в Уилтшире. Кромлехи и менгиры, кварцевые вкрапления и могилы эпохи неолита – все это было предметом его педантичных поисков. А его старший сын, вступив в наследство, с такой же педантичностью выносил сумками все трофеи из дома. Небеса его за это покарали (или вознаградили): он так и не завел семью. Зато младший сын старика, отец Чарльза, получил всего в достатке – и земли, и денег.
В его жизни случилась лишь одна трагедия: смерть в родах молодой жены и мертворожденный ребенок, не ставший сестрой годовалого Чарльза. Но эту скорбь он проглотил. Он дал своему сыну если не настоящую привязанность, то по крайней мере целую команду домашних учителей и мастеров муштры, а сына он любил чуть меньше, чем себя. Он продал свою долю земли и толково вложил деньги в акции железных дорог… и бестолково – в азартные игры (за утешением он ходил не к Всевышнему, а в «Альмак»[3]); короче, жил так, словно родился в 1702-м, а не в 1802-м, то есть жил в свое удовольствие… и умер, в общем-то, от того же в 1856-м. Чарльз был единственным наследником, и не только сильно пострадавшей отцовской собственности (в конце концов, баккара отыгралась на железнодорожном буме), но со временем и солидного дядиного состояния. Впрочем, в 1867 году дядюшка, несмотря на то что хорошо запал на кларет, не обнаруживал никаких признаков скоротечной жизни.
Чарльз любил дядю, и тот отвечал ему взаимностью. Но это не всегда отражалось в их отношениях. Он частенько соглашался, когда дядя приглашал его поохотиться на куропаток и фазанов, а вот от охоты на лис отказывался наотрез. Ему не было дела до того, что мясо жертв несъедобно, а вот безнаказанность охотников вызывала у него отвращение. К тому же он испытывал неестественное пристрастие к ходьбе, но не к езде верхом, а пешие прогулки считались неподходящим времяпрепровождением для истинного джентльмена, за исключением разве только швейцарских Альп. В принципе он не имел ничего против лошади как таковой, однако невозможность наблюдать за всем не спеша, с близкого расстояния вызывала у него, прирожденного натуралиста, резкое отрицание. Но судьба была к нему благосклонна. Как-то осенью, много лет назад, он выстрелил в необычную птицу, убегавшую с пшеничного поля, не единственного в дядином владении. Поняв, какую редкую особь он лишил жизни, Чарльз испытал смутную досаду, ведь это была одна из последних дроф на равнине Салисбери. Зато дядя был в восторге. Из нее набили чучело, и отныне она на всех таращилась своими глазками-бусинками, этакая индюшка с примесью негритянской крови, из стеклянной клетки в гостиной дома в Уинсайетте.
Дядя докучал заезжим мелкопоместным дворянам рассказами о том, как все произошло, и всякий раз, когда ему взбредало в голову лишить племянника наследства – при этом он делался пунцовым, так как недвижимость по определению переходила по мужской линии, – дядя вспоминал, с какой сердечностью он по-родственному смотрел на бессмертный трофей племянника. Да, у того были свои недостатки. Он не всегда писал дядюшке раз в неделю. А приезжая в Уинсайетт, с любовью, достойной лучшего применения, проводил полдня в библиотеке, куда сам хозяин заходил крайне редко, если вообще когда-нибудь заглядывал.
Но числились за ним грехи и посерьезнее. В Кембридже, добросовестно проштудировав классиков и признав «Тридцать девять статей»[4], он (в отличие от большинства молодых людей того времени) ступил на путь познания. Однако на втором курсе он попал в переплет и туманной лондонской ночью познал нагую девушку. Из пухленьких рук простой кокни он кинулся в объятья Церкви, а днем позже привел в ужас отца известием о том, что желает принять духовный сан. На кризис такого масштаба существовал только один ответ: нечестивый юноша был отправлен в Париж. Там его запятнанная девственность очень быстро почернела до неузнаваемости, как и его планы обручиться с Церковью, на что и рассчитывал отец. Чарльз ясно увидел, кто стоял за Оксфордским движением[5] – римский католицизм propria terra[6]. Он отказался растрачивать протестную, но комфортную английскую душу – доля иронии на долю условности – на ладан и папскую непогрешимость. Вернувшись в Лондон, он проштудировал десяток религиозных теорий (voyant trop pour nier, et trop pen pour s’assurer[7]) и в результате вышел из воды здоровым агностиком[8]. Своего божка он обнаружил в Природе, а не в Библии. Родись он на сто лет раньше, был бы деистом или, возможно, пантеистом. За компанию он ходил на утреннюю воскресную службу, но в одиночку выбирался крайне редко.
В 1856-м, проведя в «столице греха» полгода, он вернулся в Англию. Через три месяца умер его отец. Большой дом в Белгравии был сдан в аренду, а Чарльз поселился в скромных апартаментах в Кенсингтоне, более подходящих для молодого холостяка. О нем заботились слуга, повар и две служанки – более чем скромно для человека с его связями и состоянием. Но ему там было хорошо, и еще он много путешествовал. Одно или два эссе, посвященных этим странствиям, он отдал в модные журналы. Предприимчивый издатель даже предложил ему написать книгу о девяти месяцах, проведенных в Португалии, но Чарльз усматривал в авторстве что-то не совсем достойное, и к тому же это потребовало бы серьезного труда и долгой концентрации внимания. Он немного поиграл с самой идеей – и отказался. Вообще игра с идеями сделалась его главным занятием на третьем десятке.
Медленно дрейфуя в потоке викторианского времени, он, в сущности, не был таким уж легкомысленным. Случайная встреча с человеком, знавшим о маниакальном увлечении его деда, открыла ему глаза: это только в их семье бесконечная муштра, которую старик устраивал ничего не понимающим местным мужичкам, брошенным на какие-то раскопки, была предметом шуток. Другие его знакомые вспоминали сэра Чарльза Смитсона как пионера-археолога, изучавшего Британию до римского вторжения, а отдельные предметы из его утраченной коллекции с благодарностью приютил Британский музей. И постепенно Чарльз осознал, что по своему темпераменту он ближе к деду, чем его родные сыновья. В последние три года он все больше увлекался палеонтологией, новой областью его интересов. Он стал посещатьconversazioni[9] Геологического общества. Дядя смотрел на племянника, покидающего Уинсайетт с молотками и сумкой для сбора камней, с неодобрением; в его представлении поместному джентльмену пристало иметь при себе только хлыст и охотничью винтовку, но по крайней мере это был шаг вперед, если вспомнить чертовы книги в чертовой библиотеке.
Однако еще больше дядю расстраивал в племяннике другой изъян. Желтые ленты и нарциссы, символы Либеральной партии, были для Уинсайетта как красная тряпка для быка. Старик, лазурнейший тори, имел свой интерес. Но Чарльз вежливо отклонял все попытки сделать из него поборника Парламента. Он заявлял о своей политической неангажированности. Втайне же восхищался Гладстоном, который в их родном городке считался злейшим предателем, чье имя даже не упоминалось. Таким образом, не проявив уважения к семье и продемонстрировав социальную праздность, он сам себе перекрыл возможности естественного карьерного роста.
Боюсь, что праздность была его отличительной особенностью. Как многие современники, Чарльз ощущал, что былая ответственность за свои действия уступает место все возрастающему самомнению; новую Британию двигает вперед стремление быть уважаемой вместо прежнего желания делать добро ради добра. Он понимал, что слишком придирчив. Но как можно писать историю, когда у тебя за спиной стоит Маколей[10]? Сочинять прозу и стихи в центре галактики, состоящей из величайших талантов в английской литературе? Быть креативным ученым при живых Лайелле[11] и Дарвине? Быть государственным деятелем, когда Дизраэли и Гладстон, будучи на разных полюсах, заняли все свободное пространство?