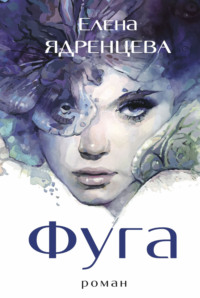Полная версия
Мальчик и его маг
– Ирма, ты хочешь или нет, чтоб я осмотрел руку? Можешь даже меня не развязывать, я аккуратно.
– Я вам не Марика, чтобы со мной сюсюкаться, – сказала Ирма, но тут же опустилась рядом. – Что, правда вылечите, господин маг?
Другие дети леса так и стояли в сумраке, безмолвные, одинаковые.
– Дай посмотрю, – сказал Шандор своим всепонимающим тихим голосом. Мельком мазнул взглядом по Ирвину – всё в порядке? – и наклонился к девушке, насколько позволял её же узел.
– Эй, атаман идёт!
Ирма отпрянула, вскочила, замерла. На поляну пружинистым, бодрым шагом вышла девушка в обнимку с ведром. С плеском поставила у ног и оглядела всех. Волосы у неё были каштановые, короткие, с мокрыми кончиками, а глаза – блестящие, как вишни, если бы вишни могли быть коричневыми. Она вся была ладная, здоровая, и лицо у неё блестело от воды.
– Ну молодцы, ни часовых, ни переклички. А это что? У нас гости?
– Пленные у нас, – Ирма вытянулась чуть ли не по струнке, – шли по тропе, топтались на границе.
– А ты и рада нежничать? Кто такие?
Свет на поляну проникал только пятнистый, лица казались погружёнными под воду, и девушка села на корточки, чтоб рассмотреть их с Шандором поближе. Почему-то Ирвин не сомневался – эта сперва заставит вылечить больную руку, а потом полоснёт ножом – и поминай как звали. Шандор вдруг улыбнулся широко, спокойно, как будто видел самый лучший сон, но глаза у него были открыты. Будто он мог сейчас что-то сказать – и выйдет солнце, и верёвки растворятся, и все они вдруг попадут домой: и сам Шандор, и Ирвин, и Ирма, и даже эта атаман, – вдруг оказалось, что волосы у неё не каштановые, а тёмно-рыжие. И ещё у неё были веснушки. Она как будто бы поймала улыбку Шандора и подавилась – приоткрыла рот, потрясла головой и вдруг ударила в ствол кулаком, уткнулась Шандору в плечо и заскулила.
– Ну что ты, – сказал он голосом, какого Ирвин у него ещё не слышал, – ну что ты, Марика, вот видишь, я вернулся. Ну всё, всё, не скули. Извини, не могу тебя обнять.
Она молчала, боднула его в плечо.
– Да, нос мне разбить мало. Да, ужасно.
– Я думала, ты не вернёшься.
– Но вернулся же.
– Всегда уходишь и не объясняешь.
– Не хотел, чтоб ты волновалась, вот и всё.
– А так, конечно, я совсем не волновалась, да? Ну ни капельки не переживала, одно веселье!
Девушка говорила так отрывисто, что было ясно: она плачет, – и всё ещё прятала лицо у Шандора на плече.
– Дураки, развяжите. Это Шаньи. Развязывайте, я сказала, что стоите?! И этого с ним тоже развяжите.
Почему-то впервые Ирвину стало обидно, что он не любит разговаривать. Сказать – я Ирвин, я всю жизнь прожил в обители и я не знаю, как тут принято у вас. Сказать что-то ещё, чтобы она не плакала и не смотрела на Ирвина как на недоразумение.
– Я не этот, – вырвалось, – я… меня Ирвином зовут.
– Как замечательно. Ты всё-таки его привёл, да? Взял и вытащил?
– Марика, он сидит перед тобой.
– Ну и ладно! – Рыжая Марика отпрянула от Шандора и уселась напротив, но с Ирвином не заговорила, а наоборот, повернулась к остальным: – Только зря морок тратили. Снимайте там!
И детей на поляне стало втрое меньше, и блеск в глазах погас. Обычные девушки.
– Марика, – сказал Шандор, – поздоровайся, пожалуйста.
– Ну привет, человек-Ирвином-зовут, – сказала Марика и протянула Ирвину руку, чтоб помочь подняться.
Марика, прошлоеПо сути, самой выпуклой моей проблемой всегда были слова. Самой заметной. Ранящей. Я никогда не могла подобрать верный текст с первого раза.
– Но на кой хрен нам…
– Марика, не так.
На кой ляд? Фиг? На фига? Зачем? Тебя всегда расстраивало, как я выражаюсь, и я привыкла быстро-быстро перебирать в уме цепочки слов, чтоб показать тебе сразу последнее.
– Охренительный свитер.
– А?
Охренительный – охрененный – офигенный – дальше мой острый разум давал сбой. Ты подарил мне свитер, красный, крупной вязки, не признаваясь, где его достал; мы встретились в заброшенной классной комнате, в которой отвалился карниз, и я сидела на подоконнике и рисовала в пыли молнии и цветы. А ты притащил свитер.
– Марика?
– Что?
– О чём ты сейчас думаешь?
Я заметить-то своих мыслей не могла, не то что сформулировать. Вот мой походный набор: Яна не такая ужасная, как ты думаешь; Катрин не стоит тебя; от пыли вечно хочется чихать, по утрам – есть; если поторопиться сбежать к пруду, можно ещё застать вечернее солнце.
Ты красивый.
Когда ты возвращаешься, я думаю: я тебя не забыла. Я думаю: опять ты тащишь за собой какого-то ребёнка, правда на сей раз не меня, вот удивительно. Ну ничего себе ботинки. Где так долго.
Я говорю:
– Дурак, – и бью рукой о ствол.
И ты говоришь:
– Ты совсем не выросла.
Глава четвёртая
Шандор, настоящееИрвин весь путь обрушивал на тебя прошлое – конечно, не нарочно, и ты уже научился отвечать походя, между делом, как будто это было не о вас.
– Шандор, тебе этот шарф мама подарила?
– Да, твоя мать дала его мне. Ешь, пожалуйста.
– А как она тебе его дала?
– Мне было холодно, она сняла его с себя. У неё был такой костюм для верховой езды, мужской.
– Почему тебе было холодно?
Ну как сказать. Потому что меня принесли в жертву. Потому что была глухая осень. Потому что во дворце в принципе не принято толком топить.
– Ты уже выбросил тряпки, в которых тебя так некуртуазно надрезали?
Катрин смотрела через плечо, ждала ответа, а ты тогда так рад был её слышать, что не улавливал смысла. Кое-как соображал, кивал, улыбался виновато (она заметила, она меня заметила и всё ещё не отослала от себя, может быть, я заслуживаю ласки? Может, я не такой уж урод? Может, может быть…).
– Да, они не отстирывались.
– Бедняга. Вот, держи шарф, – и впрямь стянула с шеи шарф и протянула тебе. Вы ехали на лошадях в дворцовом парке, и у Катрин был чёрный конь по кличке Адский, а у тебя гнедой по имени Хлебушек. – Держи, держи. Надень, я посмотрю.
И ты наматывал на себя шарф и думал – сейчас Катрин затянет до конца. У тебя к ней тогда был разговор, который ты не мог откладывать, поскольку он касался не только тебя.
– Помнишь девочку, Марику?
– А, рыжая такая?
– Арчибальд хочет нас поссорить. Она была ведь в его подчинении, а теперь в моём будто.
– Не обольщайся. Мучила она тебя по его приказу.
– Нельзя заставить человека разом отречься от всего, что он помнит и к чему привык. Так вот, он хочет, чтобы я ей отомстил, а я не собираюсь мстить.
– Кто б сомневался.
– Я хочу, чтобы он от нас отстал, поэтому я назову её женой, а потом выкуплю.
– Ну что ж, я помогу. – Катрин смотрела в сторону, на тусклое небо; костюм мужской, а сидит всё равно по-дамски, боком. – Да не дёргайся, и правда помогу. Скажу – торжество любящих сердец. Почему нет? Наиграешься – тогда поговорим.
Ты бы сказал, что Марика не игрушка, но Катрин бы не поняла. В нынешнем бесконечном лете Ирвин никак не мог доесть свою похлёбку.
Ирвин, прошедшее настоящееИрвин проснулся оттого, что Марика сказала:
– Посмотри, он спит.
– Нет, – Шандор поёрзал, пытаясь устроиться поудобнее, – он притворяется. Ирвин, ты же притворяешься?
Пахло костром и холодом, и Ирвин уже не хотел забиться в щель от этих запахов, как утром. Он вспомнил, как днём, после того как их развязали и Марика повисла на Шандоре и не отпускала, и так он с ней, висящей, и ходил по лагерю, после того как Шандор уломал-таки черноволосую показать ему руку и снял боль, – как после этого Марика вдруг сказала:
– Смотри, да у него же голова как будто кружится.
Ирвин хотел сказать, что всё в порядке, но не смог, словно его накрыли чем-то тёплым и тяжёлым.
– А, длинный день. Не обращайся к людям в третьем лице, душа моя, это невежливо.
– Ну да, ну да. В клетке жила всю жизнь и ничего не знаю. – Марика снова сделалась опасной, взрослой, но тут же улыбнулась и сказала: – Извини, Ирвин, я всё путаю мишени.
Ирвин хотел спросить, что такое мишени, но Шандор приподнял его легко, как маленького, и уложил головой к себе на колени.
– Спи, длинный день. Я разбужу, когда начнётся.
Ирвин пытался было встать, но мир и правда плыл и всё сливалось: сосны, нож, верёвки, Марика… Он попытался вырваться в последний раз, потому что хотел решить сам и странно было с кем-то быть настолько близко, но Шандор удержал его одной рукой:
– Кому-то придётся столкнуться с ограниченностью собственных сил. Спи, всё в порядке.
Ирвин уснул, всё ещё чувствуя на плече тяжёлую руку, а вот теперь проснулся, но вставать не хотел. Поэтому ничего не ответил и не шевельнулся, пусть Шандор с Марикой болтают о своём, а ему, Ирвину, лень открывать глаза.
– Ишь разморило. – Шандор рассеянно пригладил ему волосы.
– Ты с ним чего как с маленьким?
– А ты не видишь, как он себя ощущает? Ему шесть.
– Ты ему рассказал?..
– Нет, пока нет. Всё узнается в своё время.
– Ненавижу. Всегда так говоришь, а потом исчезаешь, или умираешь, или ещё что.
– Нет, на этот раз не умру.
– Чем поклянёшься?
– Могу памятью Катрин.
– Вот уж в каких я клятвах не нуждаюсь. Ты дурак, да?
– Ну знаешь ли, если на то пошло, то тебя кто просил сюда являться?
Ирвин заёрзал в полусне: неправильный голос, Шандор никогда таким не говорил.
Марика ответила тихо, но тоже как-то яростно, не как обычно:
– А потому что: куда ты пойдёшь, туда и я пойду, где ты заночуешь, там и я заночую, и где ты умрёшь, там и я буду похоронена.
– Чудовище, – в голосе Шандора была такая смесь тоски и нежности, что Ирвину на миг показалось: так не может быть, это что-то не то, что-то ужасное, знакомое, и он сейчас…
А Шандор повторил:
– Чудовище. Нельзя мне говорить такие вещи.
И потянулся к Марике прямо через Ирвина. Ирвин хотел открыть глаза и посмотреть, но сон разлился по телу новой тёплой волной, и собственная голова вдруг показалась неподъёмной. Шандор снова замер и только тихо отбивал пальцами ритм на его плече.
Марика, настоящееКогда Шандор вдруг вывалил на нас свободу, о которой мы даже не просили, две трети сразу разбежались кто куда. Дают – бери, бьют – беги, и никто из нас не сомневался, что второе в нашей истории – дело времени. Мы бежали заранее, чтоб потом вернуться. Я два дня настораживала Шандора непривычно задумчивым лицом, а потом пробралась к архиву и сбила замок. По идее, нас должны были записывать, в том числе – из каких семей изъяли. Я листала подшитые странички, фыркала над характеристиками вроде «независимая умеренно до опр. черты» и хрустела огурцами, которые Шандор мне туда молча принёс («Лучше бы пива». – «Тебе ещё рано»). Потом я долистала до начала и обнаружила мамино заявление. Там значилось: «Отдаю свою дочь, Марику Р., находясь в здравом уме и твёрдой памяти».
У матери были: серый шерстяной платок, нервные чёрные глаза и тихий голос. Не знаю, как её заставили написать «дочь», она всегда хотела сына, и я была сыном. За окном прогремел первый гром, я задвинула опустевшую тарелку под стеллаж и закрыла глаза.
Хотела мальчика, а вышла девочка.
А теперь Шандор притащил этого ребёнка – не своего технически, но своего по обещанию, и по духу, и по несбывшемуся, которое думал воплотить, – и говорил с ним так, что сердце замирало. Как будто, пока они говорили, смерти не было. Я говорила ему: ничего не выйдет. Это ребёнок Катрин, ребёнок королевы, и он станет ужасным магом, помнишь, что о нём предсказано? Но Шандор только щурился блаженно, говорил: бабушка надвое сказала. Он наплевал на предсказания, на запреты, на обычаи – на всё, на что мог, и теперь мы шли то по лесу, то вдоль реки, потому что Шандор хотел кружным путём вернуть ребёнка в вещный мир. Боялся сразу. И потому, что юный маг со старшим всегда должны проделать некий путь – Шандор называл это путешествием. И потому, что, может быть, он сам многое отдал бы, чтоб в его детстве его бы так же вели по полям и лугу и рассказывали обо всём, о чём он спрашивал.
Ну, почти обо всём. Шандор не рассказал, кем и как служит во дворце, и почему ушла Катрин – мать Ирвина, и кто такой Арчибальд. Я смотрела на Ирвина и думала – он вместит все эти открытия? Он выдержит? Мне всё время хотелось на него орать, и стыдно было, что хотелось. Как будто я завидовала, что у него есть в детстве Шандор, а у меня не было. Как будто я слабак. Я говорила:
– Почему он на тебе всё время виснет?
Ирвин и впрямь цеплялся обезьянкой: то поднырнёт под руку, то прижмётся, то потянет за полу рубашки или за рукав, то пихнёт в спину. На последнее Шандор не оборачивался и принимался говорить со мной в два раза увлечённее, пока Ирвин не возникал перед ним и не лез с разбегу обниматься. Шандор делал скучное лицо, от которого даже мне становилось стыдно, и изрекал:
– Хм. Когда бьют людей, потом извиняются.
– Извини.
– Не расслышал?
– Извини!
Он приучился не глядя протягивать руку и ерошить волосы, или ловить в захват и прижимать к себе, или хватать за руку – останавливать. Я, конечно, всё это замечала и не могла не фыркать:
– Мать-героиня.
– Вот своего заведи, тогда и комментируй.
Мы всё шли вдоль реки, и шли, и шли.
Ирвин, далёкое будущее (настоящее дальнее)Из всех дурацких и не очень ритуалов, которые мы придумали за эти годы, больше всего я не люблю тот, в котором ты приходишь в тронный зал как обычный проситель, в общей очереди. Как будто я действительно король, хотя мы оба знаем, кто достоин больше. Как будто без тебя я бы когда-нибудь чего-нибудь добился.
В этом, собственно, главная проблема. Ты стоишь задумчиво, смотришь на красные кисточки на тронном балдахине и наверняка в уме перерисовываешь весь зал – ты бы избавился от красного и белого, сделал бы тёмно-коричневый, чёрный и немного серебра. Но ты не я, а красный ослепляет неприятных мне людей ровно в той степени, чтобы они старались говорить короче.
Ты не стараешься. Ты вообще сперва молчишь, и иногда мне кажется, что, если я спрошу, в чём дело, ты по старой привычке скажешь «подумай сам». Или «ты мне скажи». Как будто мне опять тринадцать лет. Но мне семнадцать, я сижу на троне, который самой своей конструкцией убивает осанку, и не знаю, как объяснить, что теперь это я от тебя бегаю. Недавно Марика сказала что-то вроде «не огорчай его всерьёз, а то придушу», и это значило – пойди поговори с ним, но я так и не смог. Всю свою жизнь я только и делал, что шёл по твоим следам. Твои враги видели меня только заодно с тобой. Твои друзья меня усыновляли просто за компанию – ты был первым, кто обзавёлся ребёнком, пусть и чужим, пусть и сразу шестилеткой, который успел побывать подростком и вернулся в детство. Это ты в том пути встречал старых знакомых, разрешал нерешённые вопросы и отмечал, как изменился мир, – я волочился за тобой, не имея понятия, куда иду. Если тебя в своё время втащили в историю чуть ли не за волосы, то ты меня ввёл за руку – и сделал вид, что я сам выбрал за тобой пойти.
Иногда по ночам я себя спрашиваю – что, если б на моём месте был другой? Какой-нибудь Роберто, Джонни, Анна? Был бы ты с ними ласковее, строже? Изменилось бы что-нибудь или ты так и ставил галочки в своём воображаемом списке самого лучшего опекуна, и всё равно, кого ты тащишь на буксире? Видел ли ты меня – а не кого-то, кого надо баюкать, успокаивать, перед кем мысленно всё время нужно приседать на корточки, и кого-то, чья мать свела себя с ума? Зависело ли что-то лично от меня хоть когда-то в воплощённой тобой истории?
Я пытаюсь изобрести прыжок в сторону с тропы – быть благодарным тебе, быть хорошим королём; но все эти славные инверсии такие глупые, что мой натренированный тобой же мозг отсекает их на подлёте. Я могу тебя игнорировать – и ты порадуешься, что я наконец стал самостоятельнее. Я могу задушить тебя в объятиях, велеть не отлучаться ни на шаг и этим подать тысячный повод для слухов, но тогда ты подумаешь – ну что ж, видно, моё служение ещё не окончено. Я не могу придумать, как тебя задеть, и не могу понять, зачем мне это нужно. Я так хочу оказаться хоть немного не тем, кого ты растил, что забываю, каков я на самом деле.
А ты вдруг улыбаешься и говоришь, как будто ничего не происходит:
– А давайте сбежим через восточный ход и пожарим в золе перепелиные яйца.
И я говорю:
– Давай.
Ирвин, текущее настоящееОбычно Шандор всегда знал, где Ирвин, – держал за руку, или наблюдал, или подбадривал, или говорил: «Эй, нет, сюда мы точно не идём. Слёзы полезны. Да, очень грустно, понимаю, что же делать». Но сейчас они снова поравнялись с Марикой, а это значило, что они будут разговаривать, а это значило – сколько-то минут Ирвин может делать всё что угодно. Он мог сорваться в бег по лугу, или нарвать клевера и пастушьей сумки, чтоб потом сразу выбросить, чего Шандор не одобрял, или свалиться в реку. Это было весело – в прошлый раз Шандор сам его спихнул, потому что Ирвин полчаса хотел зайти, но боялся. И сам запрыгнул следом, тоже в одежде, только ноги босые, и они вместе шли по дну и искали речные камешки, и Марика кричала:
– Дураки вы оба! – и не понять, сердилась или нет.
Они и сейчас шли вдоль этой реки. Шандор огибал людные места, и из-за этого, насколько понял Ирвин, их путь всё длился и никак не мог закончиться. Поэтому Марика с Шандором и спорили. Светило солнце, и Ирвин опять шёл босиком, подвернув штаны, и думал – вот бы поймать на руку кузнечика. Он уже выучил: кузнечика, капустницу, коршуна, махаона, трясогузку, белку, полёвку, как кидать речной камень, чтобы он подпрыгивал, как дышать, чтоб уставать медленнее; дуб, клён, осину, берёзу, ромашки – и даже лотосы однажды в озере застал («Посмотри, они на ночь закрываются»). А январь, февраль, март, апрель и прочие он и так знал. И понедельник, вторник, среду. Солнце было ласковое, мягкое, не как в обители, – не выжигало белизной всё, что ты видел, а будто подтыкало одеяло, и дни тянулись один за одним, похожие, непривычные и прекрасные. Ирвин учился лазить по деревьям, и плести венки, и сидеть неподвижно, чтоб не спугнуть рыбу. А если Марика считает, что он боится ящериц, то он давно нет, он пустил одну себе на запястье, и она грелась там целых десять минут!
А облака бывают: кучевые, перистые, слоистые, слоисто-дождевые. А к диким пчёлам лучше не соваться. Ирвин теперь любил смотреть вокруг и ещё больше любил, когда Шандор объяснял, а не любил – когда они с Марикой ссорились. Вот как сейчас. Ирвин хотел сбежать, не слушать – и не мог не слушать.
– Сколько ему на самом деле?
– Лет тринадцать? Я не знаю, как именно в обители идёт время.
– И вечно ты уходишь от ответа. Ты собираешься все семь лет вот так бродить?
– Дай человеку хоть слегка прийти в себя.
– Человек – это ты или ребёнок? Потому что в мои тринадцать меня никто не водил за руку по мягкой сказочной лужайке. Мы кругами ходим!
– С твоего позволения я не буду уточнять, кто меня и куда водил в мои тринадцать.
– Ты обиделся?
Шандор молчал, и Ирвин только хотел дёрнуть его за рукав, как Марика сказала:
– А там, вообще-то, Яна ждёт.
– Она меня ненавидит.
Марика покачала головой, а Шандор сказал, как всегда, не оборачиваясь:
– Да, Ирвин, извини. Ты что-то хотел?
Ирвин хотел спросить, когда привал и будет ли Шандор разжигать костёр, но спросил вдруг другое:
– Кто такая Яна?
– О, – ответила Марика и посмотрела на Шандора с таким внезапным торжеством, будто обыграла, – о, Яна, Ирвин, это старшая твоя сестра, которая осталась с нами, когда Шандор…
– Марика.
– Что? Прикажешь замолчать?
Шандор вздохнул.
– Я расскажу тебе про Яну, – сказал, медленно превращаясь в себя прежнего, – но попозже. А пока видишь вон те ягоды?
Яна, прошлое– Ты беспощадна к людям, – говорила мама, и я не знала, что ей отвечать. Мы сидели в малой гостиной – после переезда только она нам и осталась, чтобы видеться и не вторгаться в комнаты друг друга. Я не любила в ней бывать, и мама это знала. Мне было пятнадцать, меня бесили собственные волосы, густые, пышные, отец смеялся, говорил «русалочьи», но ведь не он расчёсывал их каждый день и не он тратил воду. Мёрзли руки, потому что подогревать мне было лень, а служанки от нас сбежали. Все сбежали, кроме питомцев Арчибальда – Марики, других и новой маминой собачки по имени Шандор.
Мать вышивала. Она это не любила и именно поэтому делала лучше всех – легко, небрежно, какими-то даже успокаивающими движениями она за эти вечера вышила целое поле васильков, пока я думала, кого сильнее ненавижу. И что надо отрезать волосы. И что Шандор – дурак и нельзя ставить на него.
Я говорила:
– Он слишком тебя любит, чтобы быть полезным.
Я говорила:
– Ты его уже сломала.
Я говорила:
– Он слюнтяй, мама, это не имеет смысла.
И вот тогда моя мать, которая недрогнувшей рукой сворачивала шею курицам на кухне, которая позволяла отцу целовать себя только по воскресеньям якобы в честь праздника и которая свою историю расценивала как шанс повыгодней себя продать, вдруг сказала с тревогой:
– Ты беспощадна к людям, меня это беспокоит.
Обычно мы друг на друга не смотрели: мама совершенствовала вышивку, я дёргала за кончик косу и смотрела в окно. Я думала: придёт сегодня Шандор к матери или нет и что они уже успели сделать. Я думала: он ненамного меня старше и почему его не устраиваю я, раз непременно нужно разрушать чужие семьи. Я думала: моя мать не виновата. И ещё: я тоже хочу с кем-нибудь встречаться.
Но тут я на неё даже оглянулась.
– Что? – спросила мама, будто не в первый раз при мне кого-то пожалела. – Ты вспомни, где он провёл жизнь и почему. Я бы тоже в себя влюбилась на его месте.
В ту осень я всё время мёрзла: руки, ноги, волоски на запястьях всегда дыбом. И вечное жгучее желание залезть в ванну. Потом Марика показала мне дорогу в погреб, который почти обрушился, и мы набрали наливок, в том числе вишнёвую, и распили её прямо в тоннеле, и Марика грязным рукавом размазывала по щекам цементную пыль.
– Ой, фу, Шандор расстроится, – сказала она, смеясь, и мне перехотелось пить наливку, – скажет: не бережёшь себя или ещё что.
В ту осень Шандор был повсюду, кажется. Я подумала: если он такой из себя распрекрасный маг и ещё не сбежал, как остальные, может, он не откажется нагреть мне ванну. Отец пропадал на границах, падая из седла, и делал вид, что всё ещё можно исправить. Мама всё вышивала свои васильки и с силой дёргала ненужную уже нитку. Я раздобыла, кажется, прабабушкины ножницы и ими, ржавыми, отстригла себе волосы. Братец всё бегал в пустых коридорах и норовил стащить из ящика стола мою отрезанную косу.
Ирвин, текущее настоящее– Ирвин, – сказала Марика, – не подходи к воде.
Ирвин и не подходил – остановился за шаг, даже за два и присел на корточки. Подходить – это дотронуться пальцами ног, а Ирвин просто сидел в береговой глине: он наступил, и ступня сразу провалилась, погрузилась, как в свежее тесто, и ногти на ногах стали коричневые.
Шандор сказал:
– Мне тут не нравится, пойду осмотрюсь, – и повертел головой туда-сюда, будто пытался поймать запах. Достал из сумки и надел на Марику какой-то ключ. Хотел на Ирвина, но Марика сказала: «Знаешь, как тяжело его носить?» и «Да не волнуйся, я за этого ребёнка тупо сдохну». Ирвин видел, как она утром отпила из своей фляжки, а Шандор – нет, может быть, в этом было дело. Но он сказал: «Ох, Марика, опять» – и сказал: «Ирвин, я очень скоро приду, поручаю тебе защищать Марику» – и правда ушёл, сбежал по склону холма и скрылся из виду, и впервые за эти дни вне стен обители Ирвин остался без него. Марика была разная – то ласковая, то тихая, а то такая, что лучше было к ней не подходить. Сейчас она опять достала фляжку, открутила крышечку, сказала:
– Хочешь? – и сделала глоток, не дожидаясь, пока Ирвин ответит.
Он не хотел: у Марики после фляжки темнели глаза и движения становились какими-то сытыми не по-хорошему, тяжёлыми. Он вдруг подумал, что нужно сесть с ней рядом и прижаться, как если бы он был котёнком рыси – они недавно видели в лесу, Шандор позвал посмотреть. Марика и сама была как эта рысь, только глаза у неё были сейчас пустые, как ямки с водой. Ирвин сделал такие же на берегу: только нажмёшь на глину – и ямка наполнится. Скорее бы Шандор пришёл назад.
От нечего делать Ирвин стал смотреть на пруд – у берега он зарос камышами, дальше – ряской, и Ирвину вдруг послышался звук флейты. Камыши шевелились, как будто от ветра, но ветра не было. Ирвин оглянулся на Марику и пододвинулся поближе к воде, протянул руку. Ряска, которая до того покрывала пруд тонкой, жидкой кашицей, вдруг начала густеть, темнеть – и вода вспенилась, как будто закипела. Ирвин отпрянул, уже чувствуя, что поздно, – из пруда к нему кто-то выходил, длинный, тускло-зелёный, весь в ряске, а руки у этого кого-то были коричневые, ломкие, как стебли камыша, и упирались в бока. С лица мокрыми водорослями свисала борода и доходила чуть не до колен, и кто-то-из-пруда закинул её себе за спину, как Шандор – свой шарф. Шандор, надо позвать! Но Ирвин не успел. Кто-то-из-пруда, весь похожий то ли на жабу, то ли на склизкую ветку, уставился на него маленькими, похожими на жучиные спинки глазками и проговорил квакающим скрипучим голосом: