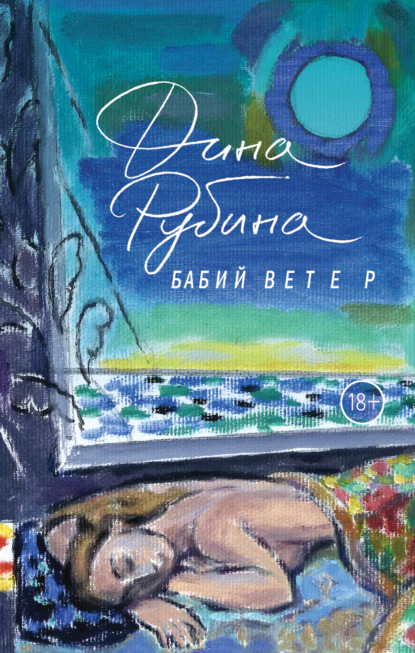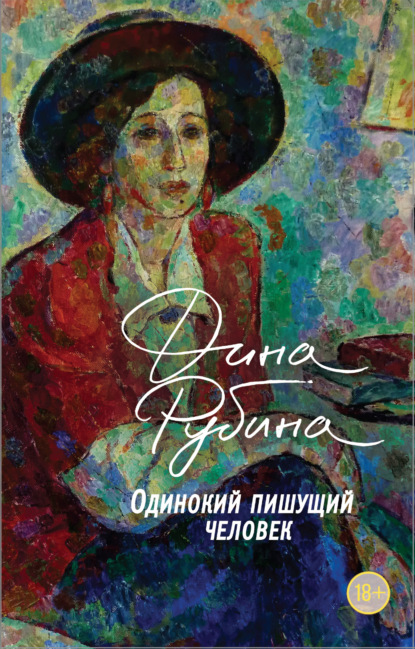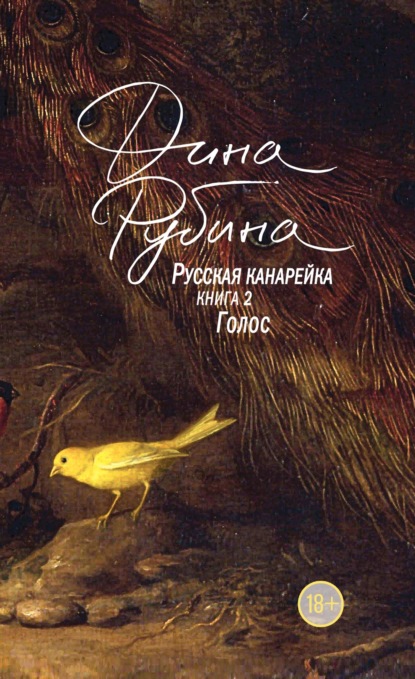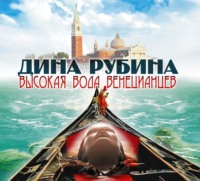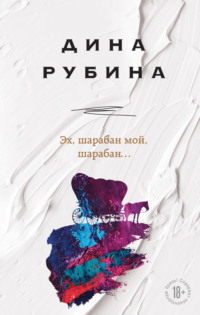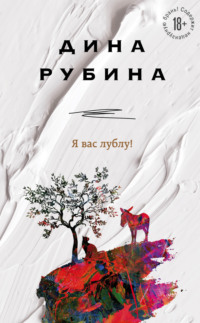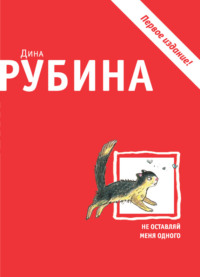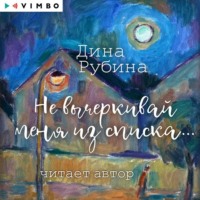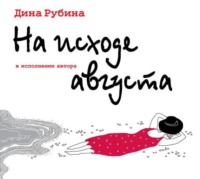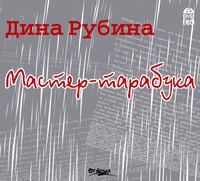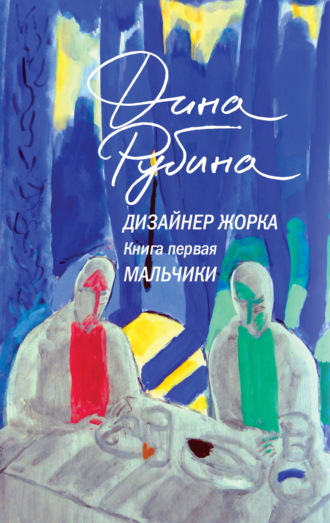
Полная версия
Дизайнер Жорка. Книга первая. Мальчики
В ночь на 1 сентября 1939 года – ночь знаменательную, с которой начались великие бедствия мира и неисчислимые бедствия его народа, – остановив все часы, аккуратно и последовательно заперев на семь хитроумных замков все двери своего варшавского дома, погрузив лишь самое необходимое в экипаж знакомого извозчика, пана Пёнтека, Абрахам Страйхман, то есть (пся крев!) Адам Стахура, с семьёй направил стези свои в Лодзь. «Встань и иди», – велел Господь его тёзке и пращуру. Путь предстоял неблизкий, но преодолимый.
Они ехали всю ночь, не остановившись ни в Прушкуве, ни в Гродзиск-Мазовецком. Отец только дважды разрешил отдохнуть и ноги размять на обочине пустынной дороги, навестить кусты и перекусить бутербродами, прихваченными Зельдой из дому. Несмотря на прохладную ночь, всем было жарко: на каждом из Страйхманов, включая детей, поддето было по три слоя шмотья, в подкладки и воротники которого, как и в плюшевую кошку Розу, Зельда зашила кое-какие мелкие предметы. Тощей заднице новоявленного Цезаря всю дорогу досаждало кольцо с бриллиантом, неудачно вшитое матерью в шов его шерстяных, с начёсом брюк.
Мальчик стоял на обочине, прислонившись спиной к стволу раскидистого конского каштана, под которым расстилалась россыпь глянцево-шоколадных плодов в колючих шкурках, жевал булочку с маслом, проблёскивающем в жёлтом свете необычайно яркой луны, вдыхал запахи придорожной травы, лошадиного пота, ночной свежести, прикидывая – что интересного ждёт его в той Лодзи, где, как папа сказал, есть целых три еврейских театра и даже кукольный театр на идише; где, сказал он, все мы «ненадолго погостим».
Родители с девочками стояли поодаль, рядом с экипажем, негромко переговариваясь приглушёнными тревожными голосами. Отец оглянулся на сына – тот сполз по стволу каштана и сидел на корточках в чёрной тени густой кроны. Абрахам к нему подошёл.
– Папа, нам ещё долго ехать?
– Как получится, ингелэ…
Он поддел носком дорожной туфли колючую шишку. Проговорил привычным своим уютно-домашним голосом:
– В старину переплётчики использовали сушёные плоды конского каштана. Перемалывали их в муку, смешивали с квасцами – получался специальный переплётный клей, более сильный, чем обычный. Книги дольше сохранялись…
3…Варшаву в эти часы уже поливали огнём «мессершмиты» и «стукасы», а немецкие танки и мотоциклисты с лёгкостью утюжили польскую конницу. И если б семья беглецов осталась у себя на Рынко́вой, то в конце октября они наверняка имели бы случай полюбоваться парадом гитлеровских войск на улицах Варшавы.
Вместе с тем уже 17 сентября нарыв прорвался с другого боку, начался «польский поход Красной армии», и советские войска вошли в Польшу, заняв её восточные земли по границам, согласованным в секретных протоколах к тому самому «Договору о дружбе и границе».
Длинная, между прочим, получилась граница, и существовала гораздо дольше, чем договор. Так называемая «линия Керзона» – впоследствии она и осталась государственной границей между Польшей и Советским Союзом.
Абрахаму в эти месяцы бегства и взрывов аж нос заложило от вони, прущей со всех сторон. Ему было совершенно ясно, что от чёрной тучи, сгустившейся над евреями Польши, надо бежать только в одном направлении: на восток. Как, к красным?! К красным, да. В том самом пакте двух мировых держав таилась негласная установка: в течение нескольких недель граждане уже несуществующей Польши могли разбрестись по домам, забиться в свои щели, затихариться по своим углам, – для чего вдоль всей новоявленной границы были наспех устроены пограничные переходы.
– Львов, между прочим, – говорил Абрахам Зельде, – крупный университетский город с традициями, с образованной публикой. Вот там и будут учиться и жить наши дети. Что, «Красный интернационал»? Холера с ним, с этим интернационалом, по крайней мере, там ещё не жгут нас в синагогах.
– Аврамек, брось свои завиральные идеи, – говорил дядя Авнер, у которого они причалили «на минутку», а имелось в виду месяца на два, на три, а там поглядим. – Мы знаем немцев по прошлой войне. Это приличные культурные люди. Они разливали суп населению из своих полевых кухонь.
Вся родня Зельды некогда бежала из Житомира от петлюровских погромов 19-го года. Она сама прекрасно помнила это лютое время, если только можно что-то помнить, отсиживаясь в погребе.
– Они, говорю тебе, наливали людям суп и звали евреев в переводчики: идиш, он ведь почти немецкий, а им надо было объясняться с этими дикарями. Это цивилизованный европейский народ, Аврамек…
– Я не Аврамек, – оборвал его угрюмый Абрахам. – Я пан Стахура, понял, ты, жид? Я польский мещанин Адам Стахура, со своей женой Зенобией и своими польскими детьми, забыл, до яснэй холеры, как их там зовут.
* * *…И в ноябре 1939-го семья Стахура в полном составе: отец, мать, юный Цезарь и две его сестрицы, одетые, само собой, по погоде, в ту же трёхслойную одежду (стужа стояла в том году ой какая стервячая!), пешком дотащились до белёной сторожки пограничного перехода, где юноша-ефрейтор, с белым от мороза лицом, просмотрев гениально сработанные Збышеком Хабанским документы, буднично пропустил их в дальнейшую жизнь.
Правда, перед тем, как указать подбородком на низкую деревянную калитку, ведущую в просторы советской власти, он вдруг заявил, что должен обыскать фройляйн. Видимо, Голда по-прежнему внешне являла собой наиболее независимое лицо в семье и по-прежнему вызывала у посторонних желание поставить её на место. Все замерли… В потайные изгибы, вытачки, воротнички и подстёжки Голдиной одежды была вшита немалая часть жизненного обеспечения семьи.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.