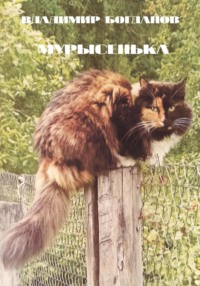Полная версия
Белокурая индианка. Том 1

Владимир Богданов
Белокурая индианка. Том 1
Покорители китов
Алеут-охотник сел в байдару. Плыл к киту с азартом, по волнам накатным поднимаясь, бурных вод веслом касаясь. Быстрым взмахом с содроганьем он в кита копьё вонзил под грудной плавник и мгновенно вновь отплыл, чтобы раненый гигант не убил хвостом случайно.
Кит носился в муках в море, умирал от страшной боли. Через день он ослабел, отнесла волна его на берег. Алеуты, празднуя победу, танцевали, песни пели. Из проколотых ноздрей свешивались вниз клыки тюленьи. У шамана, что просил о милости, палка с перьями дымилась.
Кинулся охотник с диким криком, вглядываясь в океан. Там в тумане появился призрак – дуновением вселенного желания1… Бригантина капитана Грина разворачивала к ветру паруса. Но несчастным северным туземцам показалось, что плывёт земля, чтоб засыпать их лачуги бременем, отомстить за смерть кита.
Капитан смотрел в трубу подзорную на чужие острова, изучая незнакомые места. Чтобы судно не разбить о рифы из-за сильного прибоя, встал на якорь у залива, шлюпку в воду опустив. Моряки легли на вёсла, к белым скалам направляясь в поисках удобной гавани.
Алеуты увидали лодку и таинственных людей. Про кита забыв от горя, побежали к ним навстречу не со зла, а ради любопытства чуду подивиться. Загнанные страхом, не показывали лиц и спин. Осторожно к камням прижимаясь, незаметно к берегу ползли.
Их одежда, сшитая из птичьих шкурок2, защищала от порывов ветра, выглядела некрасивой, грубой. Будто колдуны в звериной шерсти, пальцами сжимали копья и дубинки, чтоб ударить по пришельцам, что пришли сюда, как боги с неба. Может быть, заметив дым в жилищах, пожелали выгнать в горы племя, не давая добывать им пищу.
А матросы, напрягая силы, сдерживали натиск волн. Голоса свои не слышали от галдящих птичьих стай. Ружья кремневые у ног лежали. Возле скал, чернея сводом, показался вдруг высокий грот. В пену, в брызги разбиваясь, покатилась с яростью вода, ударяя с силою в борта.
Чтобы море лодку не тревожило, вытянули волоком, опрокинув кверху дном. Спрятали под ней часть ружей, вёсла. Двинулись вглубь берега, остров неизвестный рассмотреть. Шли они, оглядываясь, чуть заслышав шорох каждый, шелест трав, падение камней. Тех, кто крались, не заметили совсем.
Словно тени по земле скользили вслед английским морякам. На площадке мрачной руки невидимые схватили одного из них. Он и крикнуть не успел товарищам, повязали травами, кляп засунув плотный в рот. Отнесли в пещеру дальше, где сгущался тьмою грот.
Безуспешно моряки искали, освещая факелами каменные стены в жуткой тишине. Лишь журчанье вод подземных отвечало им во мгле. Может быть, неосторожно оступился, утонул внезапно в ледяной воде? Что им делать, сели в лодку сникшие, с этой грустной вестью встретят их на корабле.
Алеуты вдаль смотрели долго, как пристала лодка к деревянному киту. Вдруг огонь и дым возник из пушек, и ударил в небо гром. Замертво попадали на землю, не решаясь глаз поднять. А с небес лучилось солнце светом. Бригантина поднимала якорь. Паруса от ветра раздувались, точно пляшущие облака.
Успокоились немного алеуты. Кит, бросающий огонь из пасти, уменьшался, превращаясь в муху, а затем исчез из глаз. Радовались воины, что изгнали духов. Пленного подталкивая палками, привели к вождю и бросили к ногам.
Чинтаячь-охотник в грудь себя ударил, подскочил к лежавшему без чувств и копье занёс над ним с азартом. Ждал, что скажет вождь. Убивать чужого человека, что приплыл сюда из вод холодных, там, где часто возникает шторм и несёт на берег смерть. Вождь смотрел на чужеземца, он в глазах его заметил удивленье. Усмехнулся вождь невольно, приказал сорвать верёвки, накормить несчастного едой.
Воины беззлобно улыбнулись. Значит, пленник будет жить. Люди становились в тесный круг. Молодая алеутка Угла принесла лукошко с рыбой. А старуха Ота поклонилась низко, воду вылила в корыто, положила мясо с жиром. Чинтаячь вертел в ладонях огниво, разжигая мох сухой.
Иноверцы в деревянных шляпах, приукрашенных орнаментом, корольками и сивучьими усами, принесли черел – рогожу, из травы сплетённую, постелили на песок. Пусть на этом месте калг3 живёт. Рядом чучело поставили – игадагах, парку4 на него накинули для страха с перьями морского попугая.
Подходили к пленнику, прикасались пальцами к одежде. Изумлялись, цокая от впечатлений, что-то обсуждали меж собой. Речь звучала тихо и протяжно, ясно выделялись все слова. А в огне накаливались камни, их горячими бросали в воду, чтоб в корыте мясо сваривалось от крутого кипятка.
На высоком месте побережья, где река сужалась в стрежень, вздыбились полуземлянки зимней островной стоянкой, выложенные из плавника и корня, сверху крытые травой и дёрном. Чтобы прокормиться летом, алеуты добывали птиц на петли.
Поклонялись Алеукста-Агудаху5, раскрутив, бросали взмахом боло6. Женщины плели циновки и корзины, делали обтяжку для байдар. Иглами из птичьих косточек украшали бахрому на парках. Духи предков в личных амулетах почитались свято в камне. Шкурки с красочным орнаментом сохранялись по наследству. В деревянных масках вызывали зверя при обрядных плясках.
Развлекаясь с колдовскою хитростью, пели песни под аккорды цитры. В богатырских сказках, в поговорках и загадках чудных древние предания рассказывали, что бессмертны раньше были люди, появились на земле случайно от собаки, что упала с неба. Прославляя героические тайны, посыпали лица пеплом.
За горой скрывались улягамы7. От врагов на ночь спускаясь верхним люком в хижины, жило племя родовой общиной, согреваясь пламенем костра. Утром, поднимаясь по ступенькам, вырубленным на бревне, уходили на охоту воины отважные…
Пахло вкусно дымом ароматным, англичанин всматривался в даль. В синеве на безграничном горизонте лишь от волн сверкали гребешки, да бурун летел стрелой на отмель, затихая отплеском в пути. Скрылся с глаз давно корабль. Как прожить в неведомой земле? Год назад, отплыв из порта Данди, он покинул старенькую мать, а она безудержно рыдала и рукой держалась за узду коней. До сих пор он помнит взгляд молящий и её фигурку, сломленную пополам. От тоски и грусти расставанья он не знал, что ей сказать. Про отца его, погибшего в далёкой Индии, в княжестве Майсуре, вспоминала. Всё пыталась сына не пустить:
– Милый мой Алёша, свет единственный, сердце матери не выдержит печаль. Я прошу, не покидай меня. Твой отец мне полюбился в Новгороде. С ним отправилась, забыв про Родину, батюшку и матушку, и землю русскую я решилась обменять на пылкую любовь. В ночь, когда бежала, филин ухал, над затворами оконными кричал, предвещая в будущем несчастья и невзгоды беглецам. Твой отец на королевском флоте на корвете был отважным моряком. Я – крестьянкой гордой.
Что я знала, девушка безвестного села? Часто я смотрела из окошка горницы на зелёные берёзки и луга. Я гадать любила вечером на Святки. Собиралась молодёжь. Кольца, перстни и серёжки клали в блюдо вместе с хлебом. Накрывали чистым полотенцем. Дружно пели песни в посиделках, игрищах.
И от тайны взор отворотя, каждый брал, что находили пальцы. Мне последней выпало кольцо. Я сама его сняла рукою правой. В блюдо положила, мыслей не таясь. Засмеялись весело подружки. На полу кольцо катилось кругом, словно глаз дурной заколдовал. А в окно влетел вдруг голубь, крыльями ударил в серебро. То кольцо мгновенно завертелось, зазвенело, пало у дверей.
Свадьбе быть и очень близкой! Только кто мой суженый, скажи?! На неделе вербной снег на горках таял. Я на ярмарку приехала и радостной была. Солнышко играло ярким светом. Тонкий лёд хрустел на берегу. Мы в четверг великий песни пели, возле речки кликали весну.
На базаре продавали сладости. Я с подружками ходила по рядам. Неожиданно столкнулась с молодцем с добрым и приветливым лицом, с чужестранцем из далёких стран. Он, не зная русских слов, извинился жестами и шляпу снял. Синие глаза сияли счастьем. Он игрушку детскую в руках держал, протянул мне куклу, что-то говоря. Речь его была красивой и певучей. Слов, конечно, я не поняла. Мне понравился тот робкий юноша. Я подарок от него взяла. Мы порой встречались в городе. Улыбались в играх-переглядах. Наши встречи были мимолётны. В ночь Купалы изменилось всё. На лугу костры горели ярко. Девки прыгали через огонь. Я, держась за руку юноши в сорочке, подпоясанною вервью, и с венком цветущих трав, что глаза его скрывали, разбежалась, не боялась пламени. Наши руки не разжались от прыжка. Сердце вдруг сильнее застучало. Я узнала, кто со мной стоял, это он, мой храбрый иностранец, принц моих девичьих грёз. Мы в глубь леса убежали. Там, где льются ручейки, по воде венки спускали, чтобы плыли по теченью вниз. Так соединились наши жизни, словно берега одной реки, если воды все слезами выплакать от щемящей горести в груди.
Сын мой ясный, солнце дивное, сладкая сметанка, молоко со сливками, ты один слова родные понимаешь. Не забыл, как в детстве повторяла я. Тяжело жить в мрачной Англии. Родина твоя – российская земля. Что теперь мне остаётся: на чужбине мучиться и ждать, весточку вымаливать у Бога, чтоб позволил мне тебя расцеловать. Облик твой бессонными ночами буду я, рыдая, представлять. Я к одежде малолетней, из которой вырос ты, стану прикасаться с нежным трепетом, истомившись от мечты, что вернёшься вдруг из дальних странствий невредимым, как всегда. Мать твоя увидеть хочет день чудесный, кто же станет суженой твоей и моей любимою невесткой? Береги себя от всевозможных бед…
Голос матери, казалось, слился с ветром. А на край земли пришла зима. Алеуты не боялись снега. Верили, что волны крепко спят. Звёзды не разбудят море ярким блеском. Жёлтая холодная луна не растопит ледяную шкуру океана, так как ночью кружит, как сова. У неё самой живот худеет, точно днями ничего не ест. И её охотники жалеют, оставляя ей добычу возле скал. Там живёт пришелец с кожей белой. Невзлюбил его шаман лишь за то, что дом принёс из леса. Вместо челюстей и рёбер зверя он поднял деревья к небу в виде толстых плотных стен. Топит камни, дым скрывая, словно прячет от людей очаг.
Чинтаячь входил с опаской в этот чуждый непонятный дом. Разве может лес от зверя спрятать, и куда девается мороз? Кит, который в море плавал, своей кровью сохранял тепло. Хижины должны быть лёгкие, чтоб услышать можно крик врагов. Здесь глаза и уши ничего не знают, и накатывается к горлу страх.
Может быть, кругом кишат индейцы, от огня горят дома. А его пришелец успокаивал, говорил довольно странные слова:
– Ты не бойся, помнишь, как в пещере вы, внезапно оглушив меня, затаились, точно черти. Рядом с вами встала тишина, так и здесь мне помогают стены. По ночам спокойно можно спать. Часовые от врагов спасают, их и надо ставить на дозор. Там, где я живу, с высокой башни далеко осматривают лог и фьорд. Здесь, на острове, везде опасность. Только что вам враждовать, если можно жить торговлей и рабов не убивать. Хорошо, когда соседи мирные, нет сомнений в мыслях. Много в мире разного богатства. Вас не грызла жажда алчности. Смелостью отваживая страх, не держали золота в руках. Скверно дротиком проткнуть лосося ради огненной икры или матку котика клыками сбросить, как секач озлобленный, со скал, либо кайру закидав камнями острыми, гнёзда птичьи грабить с высоты. Вы с природой слиты воедино телом крепким и душой. Может быть, в вас больше жизни и бесценной красоты, нежели в песцах, что с пышным мехом под ногами бегают порой.
Улыбнулся Чинтаячь, но не спешил с ответом. Он сидел на корточках и грелся возле весело поющей печки. Слушал завывание в трубе. Он мечтал, когда вернётся лето, Угла станет верною женой. Дочь вождя седого Тукку величава и горда, точно белая лебёдка, что по озеру плывёт. Он подарит ей калана и лабретки8 из костей. Пусть украсит губы нежные, он же рядом сядет с ней.
Вождь сказал:
– Кто победит в охоте, тот получит дочь мою.
Будет им не сын шамана Тугу, что ест мясо чаек, будто жадный волк. Чинтаячь охотник для красивой Углы с гор цветы достанет с ягодой морошкой. Он пойдёт по перекатам по ручью, чтоб не мять рубиновый ковёр. Там, где льются водопады шумные, ртом коснётся белоснежных вод. Пусть забьётся, словно птица, сердце, если проколоть его стрелой. Счастья и удачи не видать на свете без подруги дорогой.
Чинтаячь взглянул в глаза соседу:
– Ты, однако, мудрый воин, знаешь больше, чем шаман. Отчего же лёд слезами плачет, тонет в море раннею весной, умирает с возвращеньем солнца? Я от жалости к холодным льдинам часто их в пещеру уносил. Там они от скуки превращались в капли мокрые, из рук текли. Может, лета испугались, или море просыпается от сна, разбивает перламутровые раковины и на берег сбрасывает гнев, на байдарах оставляет знаки, сердится на лежбище моржей?
Я пойду, когда увижу солнце в сини, чтобы морю поклониться, попрошу его проснуться поскорей.
Не успел моряк ему ответить, Чинтаячь, как тень, исчез… Проходили ночи долгие. Много сжёг Алёша жировых свечей. Раз услышал стук негромкий, это капали сосульки сверху. Заалел восток пылающим костром.
Алеуты были в красочных нашивках. Злой шаман ударил в бубен. Тугу, сын его, охотник неуклюжий, очень толстый и ленивый, щуря глаз, склонился к луку. Знал, отец не даст в обиду. Все насмешки смолкнут вмиг, только взглянет взором хищным. Тугу бил по льдинам белым, точно в тело спящей нерпы. Надломились стрелы с треском. Не хотело море просыпаться. Даже ветер стих совсем. Зря сопел стрелок несчастный, поражая свою цель. Море лишь слегка вздыхало, поднимая рокот из глубин. Сдался Тугу, бросил лук на землю. А шаман от гнева замолчал, рассердившись на сынка-разиню.
Вдруг раздался круг людской, вышел Чинтаячь – охотник смелый. Он вождю три раза поклонился в ноги и сказал:
– Позволь, о мудрый Тукку, море с лаской попросить. Разве можно так его печалить, словно враг перед тобой? Сколько нас от смерти выручало, радовало чистым серебром в нерест стаек мойвы.
Вождь качнул в согласье головой. Чинтаячь пошёл по льдинам зыбким, разговаривая сам с собой:
– Море, видишь яркие лучи, это солнце приготовило дары, чтобы волны плавились твои, да играли в нашей бухте по утрам.
И услышал он в ответ урчанье. Море закачалось, задышало. Чинтаячь воскликнул:
– Я весны дождался!
Море забурлило, поломало льдины на куски. Чинтаячь сквозь льдину провалился и рукой дрожащей зацепился за холодный скользкий край. А шаман ударил в бубен с силой:
– Море забирает в жертву Чинтаяча, чтобы племя 3жило сытно!
Пала на колени Угла и заплакала, не желая с гибелью его смириться.
У охотников дрожали ноги. Разве можно им шамана упрекнуть. Если гибнет на глазах один из лучших, значит, это хочет Бог. Только так не думал иностранец, он ползком по льдинам полз и, протягивая руку Чинтаячу, вытянул его из мёрзлых вод. Возвратившись мокрыми на берег, ждали, что ответит вождь.
И ответил вождь:
– Что ж, пришла пора купаться! Чинтаячь – пловец сивуч может стать героем праздника, если примет юколу с девичьих рук!
Засмеялось радостное племя, а шаман скрипел от злости жёлтыми зубами. Рассудил разумно вождь, вставая:
– Чужеземца я винить не стану. Он рождён в стране потусторонней, там не наши властвуют законы.
С каждым днём всё выше солнце поднималось. Первые цветы на скалах расцвели. Угла с радостью срывала, прижимала нежно их к груди. Белые красивые дриады, камнеломок розовые лепестки. В небе с трепетом зависнет вдруг поморник, что-то с жалостью расскажет ей. А вслед пуночка зальётся песней звонкой – и на сердце станет веселей.
Угла знала, что ночами светят звёзды. Это в небе загораются костры, словно искры, вспыхивают в воздухе тени от таинственных зверей и птиц. Кружат ночью тихо над охотниками, внутрь влетают, если рот открыт, коли дышит человек свободно и недвижно возле моря спит, превращаясь в сон желанный, добрый, если их ничем не рассердить. По утрам они, вздыхая, улетают по лучам в малиновый восход. Издали всё время наблюдают, как живёт на острове народ. Вялит пойманную рыбу или ест сырых морских ежей? Как в жилищах с дыркой сверху в небо рвётся сизый дым. Там, внутри, качаясь в лёгких зыбках, спят, посапывая, крошечные детки.
Видно, что-то страшное случилось, если лежбища зверей пусты, если остров стал сырой могилой, не стихают волны в эти дни. Бьются злобно, оглушая рёвом, будто море бьют хвостом киты, и оно кричит от жуткой боли, а не знает, как себя спасти. Храбрые бакланы не ныряют в воду, тупики голодные сидят у нор. Из-за туч свинцовых солнце не выходит, может, в бездне растворилось и погасло от тоски невыносимой? Что же воды, словно лёд холодные, не согрелись от его души? Лишь гагары пролетают мимо. На ближайшем побережье на уступах скал откладывают яйца. Надсмехаясь, не скрывая тайны, всё гогочут бессердечным смехом.
В бубен бьёт шаман с усердием:
– К алеутам солнце не вернётся. Море скоро остров наш зальёт, язви не утянет роковую жертву в ненасытный разъярённый рот. Пусть умрёт загадочный пришелец, наши беды волны унесут.
Приподнял в сомненье руки Тукку:
– Если плохо пахнут котиковые шкуры, их проветривают на ветру. А твои слова влетают в мои уши, точно стрелы с наконечником из зуба, мысли освежая прямотой и верой, я подумаю и вечером отвечу.
Вождь ушёл, шаман довольный вместе с сыном, обессилев с голоду, где на рифах разбивались волны мелкие, стал искать съедобные моллюски и крючком вытаскивать морских лягушек меж камней и тинной зелени. Вдруг его схватили щупальца ядовитых рук большого осьминога, тело обвивая леденящей ступкой, что сломались с кожей кости. Закричал шаман, залившись кровью, и исчез в пучине грозной. Дикий сын сбежал от страха в горы. Он сошёл от ужаса с ума. Видели его не раз охотники, как гонялся за мышами по ночам.
Море, приняв жертву, усмирило шквал. Жизнь вернулась в этот край. Много было рыбы: окуня и палтуса. А касатки развлекались, сгоряча нападали даже на китов усатых, словно кит был меньше воробья. К алеутам гнали их добычу: котиков, пингвинов, неуклюжих выдр. Гибельных несчастий стало меньше, их дельфин унёс в водоворот священный.
Время в радости не замечаешь, лишь когда течёт из родника рекой, со слезами горькими сливаясь. Вождь, услышав, как волнуется прибой, перед смертью дочь свою позвал, объявил ей, чтоб охотник Чинтаячь стал ей мужем, а для всех вождём, что об этом он народу скажет, но глаза его закрылись раньше, а душа с орлами улетела в океан.
Не поверили охотники, что вождь их умер.
– Тукку спит, однако, крепко. Тукку умирать не станет неразумно, для него важнее люди, чем слепая смерть. В добрых чувствах, призывая к дружбе, нас любил, как ласковый отец. Новый вождь для племени не нужен, будем думать так, – решили все. Чтобы спящему не докучали свет и стуки, отнесли в пещеру в темноту.
Вновь занялись прежними делами. Чинтаячь с Алёшей на байдарах вышли в море утром ранним. Солнце разливалось золотистыми огнями на поверхности играющей волны. Молодой охотник добирался до каланов, где охотился Реота старший, был он братом матери. Много лет назад в снегу замёрзший, провалившись в пропасть с гор.
В пелене тумана остров показался. Где-то там лежат каланы, отдыхают, чуя человека, быстро уплывают в море, в безопасные места. Чинтаячь не стал чинить бобрам вреда, он с Алёшей поворачивал в сторонку, веселками грёб к лесистым склонам по воде притихшей, кроткой. Лишь когда байдары дна достигли, спрыгнув в воду, взяли в руки лодки. Груз надёжно спрятали, завалив травой и ветками. Через лес дремучий продираясь, шли к каланам против ветра, чтобы выдры не почуяли заранее. Зрение каланов хуже обоняния. Но моряк не думал об охоте сладостной. Он оглядывал деревья взглядом, высокие и стройные стволы. Чинтаяча с робостью спросил:
– Я могу остаться здесь до осени, чтоб срубить избу из сосен?
– Ищешь жизни беззаботной?! – изумился искренне охотник, на Алёшу посмотрел растерянно.
– Дабы жить, пока построю шлюпку, к матери хочу вернуться, поиграть ей на пастушьей дудке или на свирели песню канареечную, чтоб смеялась радостно при встрече. В день весёлый праздный из квасного теста выпекла б пирог с заячьим или говяжьим мясом. Из крупитчатой муки испекла бы калачи, а из гречки красные блины. Принесла бы груши в патоке или сахар в леденцах с белыми голубками для лакомства да наливку из черники сладкую.
Чинтаячь, взволнованный признаньем друга, не решился расспросить о кушаньях. Он сравнил на миг феерию, странную еду – с ухой из нерки, её ловят рыбаки в начале лета. Познавая мир осознанным инстинктом, алеут вдруг вспомнил про рассказ Реота, как в лесу скала дымилась и горела яростным огнём, а оттуда доносились жалобные крики.
Злой шаман и вождь их мудрый Тукку, все сомненья бросив в огненную реку, наложив табу на происшедшее, наказали, чтоб никто не знал. Дядя скрыл, что рассказал сестре. Мальчик Чинтаячь проснулся на заре. Он, как лист, под шкурою дрожал, сохранил все годы эту тайну. Нет Реота, матери, шамана, Тукку к морю не придёт случайно.
Чинтаячь, волнуясь, что нарушит клятву, взяв за руку моряка, подошёл к зеркальной глади ручейка. Опустился на колени, всматриваясь в отражение своё, вдруг сказал:
– Чинтаяча вижу я в воде, это тень моя, что рядом ходит, на меня похожая, и знает мои мысли, с ней на белый свет родился.
Крепкий сон глаза мне закрывает, Чинтаячь-второй уходит на охоту, возвращаясь утром не голодным. Мы всегда вдвоём шагаем. С гор спускаемся в долину. Коли солнце светит в спину, мой двойник быстрей бежит, коли солнце перед нами, спутник мой плетётся сзади, и я знаю: он сердит. Каждый раз к воде склоняясь, я приветствую его: – Чинтаячь, ты выглядишь красавцем, точно хитрый морж, обманул болезни и капканы, злые беды перенёс. Помнишь ли, от стрел индейцев загорелись в круговой осаде стены? Дом из леса с белыми пришельцами проглотил безжалостный огонь. Всё сгорело, превратилось в пепел, а индейцы с острова ушли. Это место не любил я с детства, близко не старался подойти. Может быть, мне разрешишь, однако, поохотиться на зверя завтра, чтобы Угла стала мне женой, светом жизни, солнцем и луной, летом жарким, снежной тишиной, терпеливой наравне со мной.
Англичанин удивлённо слушал, как охотник разговаривал с водой, наставлял на подвиг душу прозаичной трепетной мечтой, об открытой тайне промолчал. Лишь забилось сердце от печали, и желанье всё проверить стало больше и сильней.
– Я вернусь на этот остров суеверий после дня охоты на зверей…
Подплывали алеуты осторожно на байдарах, вёсла опуская вниз. Всплеск волны каланов не тревожил. Окружали тихо и без суеты. Ближе к ним от основного стада видно было, как детёныши играют с мамкой. А она им лижет мордочки и слегка постукивает мокрым кулачком, чтоб не грызлись до войны разыгравшиеся шалуны. Круг охотников сомкнулся быстро. Зверя взяли в плотное кольцо. Засвистели стрелы, пролетая с силой, всаживаясь в мягкий мех. Бедная каланиха металась с криком, вырывала стрелы с раненых детей. На печальный зов спешил глава семейства, рассекая воду яростно и зло. В голову самца уже стрела летела. Храбрый Чинтаячь послал её. Согласились соплеменники – его добыча. Чинтаячь-охотник в битве победил. Чтобы зверь не утонул в пучине, в тело жертвы вновь стрела вонзилась с прикреплённым пузырем, изготовленным с желудка нерпы…
Много было вечером веселья. На «игрушку» – праздник – съехались с соседних жил9. Все вошли в кажим – богатый дом. Угла разносила в деревянных мисках с сараной толкушу, шикшу с жиром. Чинтаячь сидел у входа на полу. Молча ели и не двигали ногами. Наконец хозяин встал, ударяя в погремушки с топорковых клювов, первым начал пляс. А другие били в бубны. Пели песни, прославляя предков, вспоминали подвиги военные да удачу на охоте. Пили из корений квас.
Каждому дарили добрые подарки. Парки, лёгкие камлейки, бисер. А каланья шкура над огнём сушилась. Дым костра кружился струйкой тонкой и, срывая огненные искры, улетал, прощаясь, вверх. Лица оживлённые, румяно-белые. Волосы, глаза черны, как ночь.
Чинтаячь не стал задерживать Алёшу, племя выбрало его вождём. И с согласья Тукку, что томился в дрёме, получил в подарок лодку. Приближаясь к острову в удачную погоду, маялся в неясности решений, словно прорицатель древности Гелен10. Он не знал, что будет дальше. Робкие мечты, как слёзы Гелиады,11 на песок упали янтарём.
У индейцев
Может быть, шумели грустно ветки. Долго брёл Алёша по лесам. В дебрях, где сплетают ноги травы и журчит в ручьях хрустальная вода, пепелище сразу не заметишь, даже если пристально искать. Жизнь всегда залечивает раны, красотой скрывая бремя тяжких бед. Восхищённый ласковой природой, он прижался к дереву спиной. Где-то в кронах заливались птицы. Песни звонкие и мелодичные вниз слетали голосистым гимном, точно ладовый незримый Глас12. Созерцал Алёша мир с улыбкой страстной. Вместо птиц он видел добрых Альв13. Там, в лучах небесного чертога, засияли их божественные лики. Наш моряк не слышал хор верховный, он устал, глаза на миг закрыл.