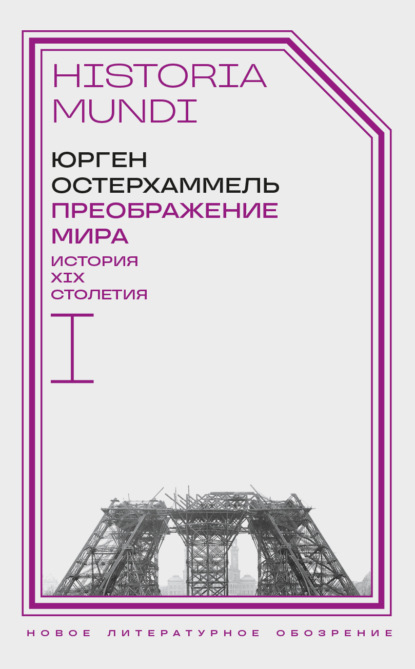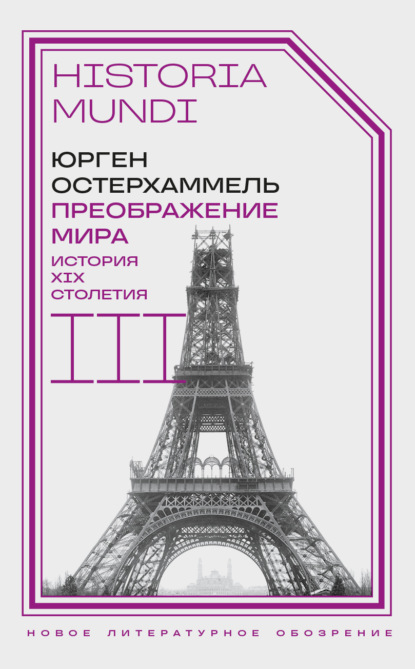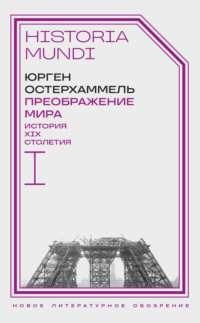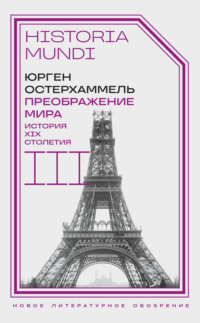Полная версия
Преображение мира. История XIX столетия. Том II. Формы господства
В отличие от Бразилии, в Аргентине индейцы долго не уступали свои земли белым. Еще в 1830‑х годах в провинции Буэнос-Айрес случались нападения индейцев. Они уводили с собой сотни женщин и детей. Сдвиг внутренней границы на запад, с одной стороны, потребовал определения размеров государства, с другой стороны, породил дискурс о неполноценности коренных жителей и недопустимости их включения в национальное сообщество. Борьба теперь велась не только против конкретных коренных жителей, но против «варварства» как такового. «Пустынная война» против индейцев, которая началась в 1879 году и тянулась вплоть до 1885‑го, оказалась удачной для республиканского правительства только благодаря всеобщему применению нового оружия, заряжающегося с казенной части, – винтовок. Почти год в год с окончанием последних больших войн с индейцами в США огромные площади внутренних районов Аргентины были очищены от индейцев для использования в хозяйственных целях. Коренному населению не позволили даже влачить убогое существование в резервации.
БразилияВ Бразилии – стране по меньшей мере с такими же резервами земли, как в США, – развитие фронтира протекало совсем по-другому, отличаясь также от развития фронтира в Аргентине105. Бразилия – единственная страна мира, в которой начавшиеся после 1492 года фронтирные процессы эксплуатации природных богатств и заселения продолжаются по сей день. Наряду с рано возникшим горным фронтиром в Бразилии существовал еще один вид фронтира, связанный с плантациями сахарного тростника, которые возделывали рабы. Плантации походили на те, которые были в Алабаме или Миссисипи перед Гражданской войной в США. Крестьянский фронтир развился позже и неоднородно. Общественная жизнь Бразилии и сегодня сконцентрирована на прибрежной полосе вдоль океана. Внутренние районы страны (sertão) – а поначалу так называли все земли, находящиеся на расстоянии дальше пушечного выстрела португальских завоевателей, – имели (и отчасти до сих пор имеют) меньшую символическую ценность, их освоение мало кого интересует. Джунгли Амазонки до массированного наступления на первобытные леса в последние десятилетия ХX века были как бы «фронтиром по ту сторону фронтира»106. В бразильской литературе фронтир представлялся как пространство, а не как процесс. Пространственное понятие sertão – ближайший из имеющихся в португальском языке эквивалент тёрнеровского понятия, а слово fronteira означает скорее линию государственной границы.
В Бразилии отсутствовали некоторые объективные предпосылки для освоения внутренних районов. Прежде всего, не было судоходной речной сети, хоть сколько-нибудь сравнимой с чрезвычайно удобной системой рек Огайо – Миссури – Миссисипи. Полезные ископаемые, необходимые в период индустриализации, также отсутствовали, тогда как на Западе США уголь и железная руда играли определяющую роль. Только когда Бразилия возглавила мировой рынок кофе, возникло нечто вроде подвижной границы освоенных под сельскохозяйственное использование территорий. В середине 1830‑х годов экспорт кофе из Бразилии впервые превысил экспорт сахара. Бразилия стала важнейшим производителем кофе в мире107. С истощением почвы, которую в технологических условиях той эпохи могло эксплуатировать только одно поколение, плантаторы потянулись дальше на запад. После отмены рабства в 1888 году возникла потребность в сельскохозяйственных рабочих; раньше всего среагировали итальянцы, причем в Бразилии их нанимали на работу на еще менее выгодных условиях, чем в Аргентине. Положение итальянских трудовых мигрантов на бразильских плантациях было настолько отчаянным, что правительство Италии в 1902 году запретило вербовать в стране сельскохозяйственных рабочих на работу туда.
Властные структуры в обеих странах были похожи. Латифундистам в Аргентине соответствовали владельцы крупных кофейных плантаций в Бразилии. Так же как и в Аргентине, в Бразилии не проводилась политика выделения участков земли для мелких крестьян108. Бразильская fronteira в основном представляла собой зону монокультурного производства кофе, который выращивали либо с помощью рабов, либо без них, в рамках крупных производственных единиц. Это не было местом, где, в духе Тёрнера, могли возникнуть самостоятельный пионерский характер, домовитый средний слой и школа демократии под открытым небом. Как показал в своей трилогии Джон Хемминг, бразильским индейцам, которые были вовлечены не в экономику производства сахара и кофе, но в торговлю каучуком на Амазонке, до 1910 года не была предоставлена даже защита резерваций109. Девственные леса Амазонки, в отличие от Великих равнин США, со всех сторон окруженных районами поселения евроамериканских колонистов, оставались открытой границей. Индейцы отступали поэтому все глубже, в самые удаленные регионы. Их последнее сопротивление колонистам угасло на рубеже столетий.
Южная АфрикаФронтирные процессы в Южной Америке и Южной Африке не оказывали друг на друга какого-либо реального воздействия. На этом фоне особенно бросается в глаза их точное совпадение во времени. Последние индейские войны прошли в Северной и Южной Америке в 1870‑х и в 1880‑х годах, в то самое время, когда закончилась оккупация белыми (британскими) властями южноафриканских внутренних районов. 1879 год для Южной Африки стал переломным. В этом году племя зулусов, главный военный противник британцев в Африке, было разгромлено. Это была последняя из серии войн между британскими колонизаторами и африканской армией. Король зулусов Кетчвайо, провоцируемый невыполнимыми требованиями британцев, все-таки смог мобилизовать более чем тридцатитысячную армию (величина недосягаемая для североамериканских индейцев), однако она была разбита британскими властями110. Племена как сиу, так и зулусов были наиболее значительной местной военной силой и смогли покорить некоторые соседние племена и сделать их зависимыми. Вследствие контактов этих племен с белыми на протяжении десятилетий они прекрасно знали об их военных возможностях. Оба этих племени в процессе нашествия белых были ассимилированы незначительно. Оба образовали сложные политические структуры и системы вероисповедания, которые оставались глубоко чуждыми европейцам и евроамериканцам и способствовали созданию картины иррациональной и враждебной цивилизации «дикости» – как представляла их пропаганда. В 1880‑х годах в США, так же как и в колониальной Африке, господство белых закрепилось окончательно111.
Но в судьбе сиу и зулусов, помимо некоторой общности, имелись и различия. Оказавшись перед лицом сильного экономического давления, эти народы обнаружили неодинаковую способность сопротивляться. Сиу были кочевыми охотниками на бизонов, они организовывались в охотничьи группы и не имели никакой политической или военной иерархии. Для расширяющегося экономического рынка США они были полностью бесполезны. Зулусы, напротив, существовали на базе гораздо более мощного оседлого многоотраслевого хозяйства – животноводства и земледелия. У них была централизованная монархическая иерархия, и социальная интеграция обеспечивалась системой четко очерченных возрастных групп. Поэтому общество зулусов, вопреки военному поражению и оккупации мест их обитания, было нелегко разбить и деморализовать – как это произошло с племенем сиу. В экономике Южной Африки страна зулусов не маргинализировалась, а превратилась в резервуар дешевой рабочей силы. Постепенно становясь пролетариями, зулусы по крайней мере играли важную роль в экономическом разделении труда в стране.
Хронология ранних фронтиров в Южной Африке и Северной Америке протекала удивительно параллельно. Первые контакты между пришлыми европейцами и местным населением произошли в XVII веке. В обоих случаях поворотным пунктом стали 1830‑е годы. В США это было связано с джексоновской депортацией индейцев с Юга, а на Юге Африки – с началом Великого трека буров. Южноафриканской особенностью стал раскол среди белого населения после британской оккупации мыса Доброй Надежды в 1806 году: с этого момента наряду с голландскими иммигрантами XVII века возникла также небольшая британская община, которая была связана с богатой и мощной империалистической метрополией и стала принимать все важные решения в Капской колонии. Трекбуры, которые жили исключительно за счет сельского хозяйства, сначала были принуждены покинуть свои земли из‑за их недостатка. Затем, в начале 1830‑х годов, к этому фактору прибавилась исходящая из Лондона политика освобождения рабов. Эта политика проводилась и в Капской колонии, где она подорвала один из главных устоев бурского общества. Декларируемое из Лондона равноправие людей независимо от цвета кожи было для буров неприемлемым.
Направление пути отправившихся в Большой трек пионеров с их повозками, запряженными быками, определялось сопротивлением хорошо вооруженных африканских армий, прежде всего племени коса на востоке. На севере, на плато Высокий Велд, можно было рассчитывать на меньшее сопротивление. Буры воспользовались прежде всего раздорами между многочисленными африканскими сообществами, которые возникли вследствие прежних многочисленных военных столкновений между африканскими народами. В 1816–1828 годах государство зулусов, молниеносно усилившееся при короле-военачальнике Шаке, очистило от населения большие области Граслэнда и одновременно обеспечило белым поселенцам союзников из антизулусского лагеря112.
Великий трек буров был в военном и логистическом смысле удачным маневром одной из этнических групп, которые конкурировали из‑за земельных угодий. Он превратился в колониальный завоевательный поход, носивший вначале частный характер. Образование государств началось позднее, как «побочное следствие» (по выражению Йорга Фиша) частного присвоения земель. Буры создали два собственных государства: республику Трансвааль (1852) и Оранжевое Свободное Государство (1854). Два государства образовались из‑за раскола в процессе сопротивления британской Капской колонии. Оба были признаны британцами в договорном порядке, и британские подданные оказывали определенное влияние на их экономическую жизнь. Таким образом, в XIX веке на Юге Африки не существовало единого и абстрактного государства, которое могло бы проводить единую политику в отношении чернокожего населения по аналогии с политикой США касательно индейцев113. В военном отношении у буров не было централизованной армии. Вооруженные поселенцы заботились о себе сами, чтобы доказать свою способность к формированию государства. В Оранжевом Свободном Государстве это удалось в большей степени, в Трансваале, который в 1877 году временно был аннексирован британцами, – в меньшей. В обоих случаях государственный аппарат находился в рудиментарном состоянии, финансовое положение было нестабильным, интеграция в гражданское общество, помимо церковных общин, отсутствовала114. Так как в 1880‑х годах южноафриканские фронтиры «закрылись» и никакой свободной земли, которую можно было бы поделить и распределить, уже не оставалось, бурские республики как государственные образования на границе заселенной территории перестали существовать.
Каждый фронтир имеет свои демографические особенности, и здесь кроется особенно важное различие между Северной Америкой и Южной Африкой. В Южной Африке до 1880‑х годов не было массовой иммиграции, и даже после этого приток на золотые и алмазные месторождения не мог сравниться с гигантской трансатлантической миграцией в Северную Америку. В середине XIX века индейцы уже составляли ничтожную часть населения США, в то время как африканцы составляли более 80 процентов всего населения южной Африки. Завезенные болезни уничтожили гораздо меньше чернокожих африканцев, чем североамериканских индейцев. Их культурная травматизация была не настолько глубока, чтобы вызвать значительный демографический перелом. Поэтому в Южной Африке доколониальные жители не стали меньшинством в своей собственной стране115.
В Южной Африке, как и в Северной Америке, самодостаточный вооруженный пионер и его семья изначально были преобладающим типом приграничного жителя. Однако в Америке фронтир рано стал перемежаться с элементами крупномасштабного производства для экспортных рынков. В XVIII веке табачные и хлопковые плантации, часть которых располагалась на границе, были интегрированы в крупные торговые сети. В течение XIX века граница все больше становилась источником процессов капиталистического развития. В Южной Африке, после исхода части буров во внутренние районы страны, эти районы поначалу удалились от мировых рынков еще больше, чем раньше. Только после того, как в 1860‑х годах на территории бурских республик были обнаружены алмазы, а двумя десятилетиями позже – месторождения золота, к сельскохозяйственному натуральному хозяйству бурских крестьян присоединился горнодобывающий фронтир, в значительной степени ориентированный на мировой рынок116.
К концу XIX века бантуязычное население Южной Африки смогло сохранить относительно более благоприятное место в общественном устройстве, чем индейцы Северной Америки. Если койсанские народы в южной части Капской провинции уже в ранний колониальный период почти полностью потеряли доступ к сельскохозяйственным землям, то бантуязычное население внутренних районов страны смогло обеспечить эффективное использование значительных земельных ресурсов, несмотря на продвижение границы расселения. В значительной части Лесото (Басутоленд), в Свазиленде и на части восточной территории нынешней Южно-Африканской Республики африканские мелкие землевладельцы обрабатывали свои собственные земли. Это было отчасти результатом их сопротивления, отчасти – следствием специальных решений различных правительств, не допускавших прямой экспроприации африканцев. В Северной Америке такие уступки не делались. Здесь кочевническое хозяйство охотников на бизонов вступило в прямой конфликт с расширением сельскохозяйственных угодий и использованием прерий для капиталистического скотоводства. Ни одна из этих новых экономик не нуждалась в наемных работниках-индейцах. В Южной Африке фермы и шахты нуждались в наемном труде коренного населения. Поэтому африканцам не только предоставили ниши для существования, но и интегрировали их в динамичные сектора экономики на низшей ступени расовой иерархии. Тот факт, что южноафриканские правители предотвратили расселение черного пролетариата по всей стране и вместо этого создали демаркированные жилые районы, напоминающие гетто, во многом напоминает резервации, в которые были заключены североамериканские индейцы. Целью южноафриканских резерваций, которые обрели свою законченную форму только гораздо позже, после 1951 года, под названием homelands
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Klein, 1997, 145f.
2
Краткое описание историографического развития в рамках изучения истории Америки: Walsh, 2005, 1–18.
3
White, 1991а.
4
Главный труд, интегрировавший истории семьи: Hyde A. F. Empires, Nations, and Families. A History of the North American West, 1800–1860. Lincoln, 2011. О женщинах-ковбоях: Jordan T. Cowgirls. 1992, примечания к с. 465–489.
5
Русский перевод книги вышел в 1984 году под названием «Печальные тропики». – Прим. ред.
6
См. главу 12 в книге: Bayly C. A., The Birth of the Modern World, 1780–1914, Oxford, 2004, 443–450.
7
См.: Turner, 1986, 1–38.
8
Фундаментально: Waechter, 1996, в особенности 100–120; Jacobs, 1994; Wrobel, 1993.
9
Выдающуюся роль здесь играют многочисленные публикации Ричарда Слоткина.
10
Billington, 1949, 3–7.
11
Webb, 1964. Впервые книга была опубликована в 1952 году.
12
Hennessy, 1978, 22, 144; один из последователей: Toennes, 1998. Удачно разработан этот тезис и в исследовании: Cronon, 1983.
13
McNeill, 1964.
14
Важные импульсы в этой связи: Lamar H., Thompson L. Comparative Frontier History // Idem, 1981, 3–13, в особенности 7f.; Marx, 2003; Nugent W. Comparing Wests and Frontiers // Milner et al., 1994, 803–833; Hennessy, 1978; Careless, 1989, 40.
15
Точка зрения «общей истории» (shared history) убедительно представлена в книге: West, 1998, здесь 13: «Фронтир никогда не служил размежеванию вещей. Здесь они существовали совместно» («The frontier never separated things. It brought things together»). Противоположный взгляд на фронтиры глобализированного мира как потенциально опасной ничейной территории содержится в исследовании: Bauman, 2002, 90–94.
16
Ср. также размышления автора книги: Maier, 2006,78–111; в частности, по поводу типологии фронтиров 99f.
17
Moreman, 1998, 24–31 et passim.
18
Mehra, 1992.
19
Adelman, Aron, 1999, 816; несколько иное применение этого понятия встречается у: Baud, Schendel, 1997, 216.
20
Ср. версию его теории империализма: Ronald Robinson. The Excentric Idea of Imperialism, With or Without Empire // Mommsen, Osterhammel, 1986, 276–289, здесь 273–276.
21
Lattimore, 1940.
22
Richards, 2003, 5f.
23
Curtin, 1999, 49ff.; к истории фронтира Австралии: Rowley, 1974.
24
Adelman, 1994, 21, 96.
25
Rohrbough, 1997, 1; West, 1998, xv. О социальной истории золотых приисков см.: Finzsch, 1982; ср. также общий обзор: Nugent, 1999, 54–65.
26
Hine, Faragher, 2000, 36–38, 71–73, 79; подробно: Weber, 1992.
27
Prucha, 1986, 181ff.; Banner, 2005, 228–256.
28
Это представляет собой характерную черту представителей исторической школы Уильяма Эпелмана Уильямса, см.: Waechter, 1996, 318–328. Убедительное применение такого тезиса в работах французского историка: Heffer, 2002.
29
Хороший обзор: White R. Western History // Foner, 1997, 203–230; среди многочисленных сборников статей выделяется: Milner, Bogue, 1996.
30
Jennings, 1993, 366.
31
Hurtado, 1988, 1.
32
Все еще полезное для ориентации: Lindig, Munzel, 1985, в частности первый том под авторством Вольфганга Линдига.
33
Ср.: Dowd, 1992.
34
Основополагающая работа: Barclay, 1980, 166–188; здесь автор пишет о «новоизобретенном конном номадизме» (reinvention of equestrian nomadism).
35
West, 1998, 78.
36
Hurt, 1987, 63, – отличная, богатая деталями книга.
37
Isenberg, 2000, 25f.
38
Об энергообмене см.: West, 1998, 51.
39
Hämäläinen, 2009, 240f.
40
Utley, 1984, 29.
41
О характерной для индейского населения мобильности см.: Cronon, 1983, 37ff.
42
Kavanagh, 1996, 61.
43
Krech, 1999. В частности, 123–149, где освещается проблема сохранения и истощения природных ресурсов на примере отношения индейцев к бизонам.
44
Isenberg, 2000, 83.
45
Hämäläinen, 2009, 844. Индейцы лакота-сиу успешно сохранили экологическое равновесие в северной части Великих равнин и в результате на несколько десятилетий дольше смогли сопротивляться евроамериканскому вторжению (Ibid., 859).
46
Isenberg, 2000, 121, 129, 137, 139f.
47
Faragher, 1986, 22f.
48
Nugent, 1999, 24.
49
Walsh, 2005, 46 (Таб. 3.1).
50
Особое значение здесь имеет фундаментальный труд: Unruh, 1979.
51
Limerick, 1987, 94.
52
Faragher, 1986, 51.
53
Danbom, 1995, 87, 93.
54
Nugent, 1999, 83–85, здесь 85.
55
Gutiérrez, 1995, 14; Walsh, 2005, 62. На рубеже веков, около 1900 года, на юго-западе страны проживало около 500 тысяч человек мексиканского происхождения.
56
Walsh, 2005, 58ff., в особенности 68; Limerick, 1987, 260.
57
Детально в: Walsh, 2005, 27.
58
Paul, 1988, 189, 199f.; Hennessy, 1978, 146.
59
Nugent, 1999, 99.
60
Поухатаны – традиционное написание названия племени, более правильным считается написание поватены. – Прим. ред.
61
См. иллюстрированное издание: Axelrod, 1993.
62
Unruh, 1979, 189, 195–198.
63
Clodfelter, 1998, 2, 66f.
64
Ibid., 16.
65
См. военную границу на карте в: Lamar H. R., Truett S. The Greater Southwest and California from the Beginning of European Settlement to the 1880s // Trigger, Washburn, 1996, Ч. 2, 57–115, здесь 88f.
66
Хрестоматийное издание: Vandervort, 2006; удачное введение в тему: Hochgeschwender M. The Last Stand. Die Indianerkriege im Westen der USA (1840–1890) // Klein, Schumacher, 2006, 44–79. Специфический опыт поколения, выросшего после окончания войн с индейцами, становится наглядным на примере одной биографии: Utley, 1993.
67
Ср.: Way P. The Cutting Edge of Culture: British Soldiers Encounter Native Americans in the French and Indian War // Daunton, Halpern, 1999, 123–148.
68
Brown R. M. Violence // Milner et al., 1994, 293–425, здесь 396, 399, 412f., 416. См. также: Brown, 1991, 41, 44, 48 et passim. Некоторые исследователи возражали Брауну, указывая, что описанная им жестокость фронтиров не особенно отличается от жестокости в некоторых городских районах современной Америки.
69
Richter, 2001, 67.
70
О предшествующих договоренностях см.: Prucha, 1986, 7, 19ff., 140f., 165ff.
71
Ibid., 44.
72
Цит. по: Hine, Faragher, 2000, 176.
73
Rogin, 1975.
74
Richter, 2001, 201–208, 235f.
75
Wright, 1986, 282.
76
Hine, Faragher, 2000, 179f. Ныне семинолы отличаются ярко выраженной деловой активностью. В 2006 году представители племени приобрели сеть ресторанов «Hard Rock Cafe», имеющую филиалы во многих крупных городах мира (см. статью в газете «Süddeutsche Zeitung», 8.12.2006, 12).