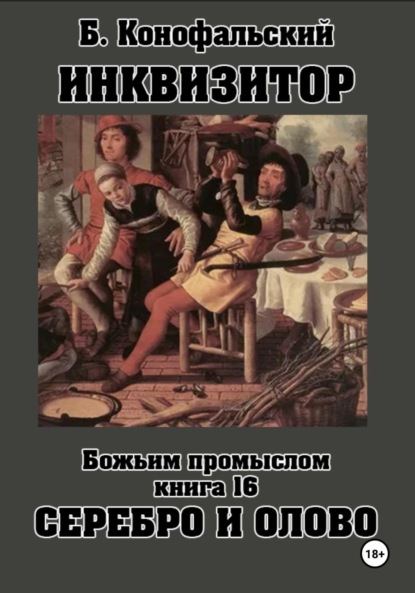Полная версия
Инквизитор. Божьим промыслом. Книга 14. Пожары и виселицы

Борис Конофальский
Инквизитор. Божьим промыслом. Книга 14. Пожары и виселицы
Глава 1
Во дворе их встретили… Нет, не прекрасные дамы, а двенадцать солдат в хорошем доспехе, шестеро с алебардами и шестеро с арбалетами. При них было два сержанта в шарфах и при штандарте и офицер, очень статный человек с тяжёлым лицом; именно он поспешил к графу, поклонился и принял узду его коня. А потом и учтиво придержал тому стремя, помогая сеньору с него спуститься. Волков вылез из седла сам, болваны его оруженосцы – ни один не поторопился, все трое глазели, дурни, по сторонам. Барон бросил поводья фон Готту, а фон Тельвис сразу представил ему своего человека.
– Гулаваш, хранитель закона в нашем графстве, – и тут граф кладёт руку на плечо хранителя и добавляет многозначительно: – Мой коннетабль и мой настоящий друг.
Тот в ответ лишь кланяется своему сеньору. Он пытается изобразить улыбку на своём суровом лице.
Этот Гулаваш был ростом выше Волкова, а статью, шириной плеч превосходил фон Готта. Торс у него мощный, без брюха и лишнего сала, защищён отличной бригантиной, под нею хорошая стеганка с рукавами, за поясом кривой кинжал, а на поясе меч. Тяжёлый, из тех, что уже не делают, почти такой же, как и у Волкова. Сам коннетабль был ещё не стар, волосы были у него, нет, не рыжие, а какие-то каурые. Глаза карие. И ещё сапоги у него были с загнутыми вверх носами, такие носят сарацины, Волков помнил этот фасон, видел в как-то в южном порту, в молодости.
– Гулаваш, это мой гость, – продолжал граф, – барон фон Рабенбург, он следует со своими людьми на запад к нашим соседям и милостиво согласился принять моё предложение.
Коннетабль поклонился генералу весьма учтиво, хотя молча и с достоинством: дескать, гость моего сеньора достоин уважения и поклона, но излишне гнуть спину я и перед ним не собираюсь. Волков не стал представлять из себя большого вельможу и тоже поклонился в ответ. Уж хотя бы потому это нужно было сделать, что сам Гулаваш был весьма… внушителен. Да и люди его были неплохи и оружием, и доспехом, то сразу бросалось в глаза, видно, офицер не давал им послаблений, хотя всем известно, что для солдата нет ничего хуже долгого гарнизонного сидения, которое во всяком человеке рано или поздно начнёт вызывать леность и небрежение.
Люди Волкова тоже спешивались, и сержант Биккель стал указывать кавалеристам негромко:
– Сёдел не снимать, только подпруги отпустить, самим не расходиться, быть при лошадях, – он указал рукой, – лошадей пока ставьте в тень, вон к тем коновязям. Кляйбер, ступай найди конюшни, спроси у конюхов, где можно отпоить коней. Пусть скажет, можно ли из большого колодца воду черпать, и вёдер попроси. Жара вон какая стоит.
Всё это генерал слышал краем уха, Биккель сержант отличный, ещё с первых дел против горцев с ним был, рядовым. Теперь же делал он всё как надо; в общем, за свой отряд барон был спокоен, а тут и скучавший паж Виктор, давно спрыгнувший с лошади, наконец заявляет с присущей ему наглостью:
– Что же вы стоите тут, господа, да кланяетесь друг другу, когда вас дамы ждут, заждались уже, наверное. То невежливо.
И тут Волков замечает, так как тот стоит совсем к нему близко, что у мальчишки… кажется!.. подведены черным глаза. Точно так, как это делают красотки в Ланне.
– Истинно, истинно, господа, то невежливо, – оживился фон Тельвис, – пойдёмте, дамы и вправду ждут. С самого утра, что мы за вами поехали, ожидают… Пойдёмте. Прошу вас…
Он пригласил всех изысканным жестом руки к лестнице, что вела со двора на балкон, на второй этаж к покоям.
И барон пошёл первым, если не считать этого наглого мальчишки пажа, что мелькал у него перед глазами своими белыми, на удивление чистыми после верховой езды чулками. А за ними шли и граф, и все оруженосцы барона, и Гулаваш с двумя своими сержантами. А из людей генерала во дворе замка остался лишь сержант со своими людьми да солдаты графа, да ещё и дворня, что сбежалась посмотреть на приезжих. А вот сам замок, если не считать убранства его, совсем не впечатлял барона. Ставлен, видно, он был давно, отстоял уже века. Лишь донжон у него был снесён за ненадобностью, а вместо него, на его камнях, поставлены нужные в хозяйстве пристройки. Да ещё, видно, дерево лестниц, дверей и балконов с тех пор сменили, старое, наверное, погнило. Поставили хороший дуб. И тот уже от времени начал темнеть, но был ещё весьма крепок.
Лестницы к стенам не завалены всяким хламом, во дворе порядок, переходы на стенах меж башен тоже не захламлены. Телеги в ряд, сено аккуратно сложено, дрова под навесом от дождей, всё, всё, как и должно быть у рачительного хозяина.
Нет, у барона замок был совсем не такой. Не было у него круглых, приземистых башен на углах строения, зато были у замка барона выступы-равелины и прочные скосы у основания стен, те скосы серьёзно укрепляли стены, а равелины и вовсе никаким пушкам не взять, а ещё у его замка были вынесенные балконы для арбалетчиков и мушкетёров. В общем, в замке барона всё было рассчитано, чтобы даже тот, кто покусится на его сеньорат с пушками пойти, и тот ушёл бы, только зубы обломав. Замок его, правда, нужно было только немного достроить. Впрочем, он не сомневался, что скоро изыщет деньги на окончание столь разорительного для него строительства. И тогда он будет по праву гордиться своим домом, лучшим домом на северной Марте, а пока он разглядывал замок графа, и особенно не новые его стены.
«Нет, этой рухляди и дня против моих орудий не простоять».
Эти мысли успокаивали его; впрочем, он и так не сильно о чём-то беспокоился, а лишь шёл по балкону из крепчайшего дуба к покоям графа да рассматривал гербы его на больших, великолепно расписанных павезах, что висели на стене вдоль всего балкона, да старое оружие, что было вывешено прямо у входа в покои. И щиты, и оружие всё было в хорошем состоянии, и барон опять отмечает, что в замке порядок. Вот только сам граф совсем не был похож на человека в делах тщательного и всякую мелочь в хозяйстве знающего. Он скорее походил на повесу праздного, что любит изыск и красоту. И паж его был тому прекрасным подтверждением.
«Но людей он нанимает толковых. И мажордом у него знатный, и коннетабль дельный».
Волкову было очевидно, что люд местный, что на земле, что в замке, держат в строгости и лениться тут никому не дают. И ещё он понял кое-что: замок стар, потому что новый графу не так чтобы и нужен – видно, тихо в этих местах. И горцев свирепых, своих западных соседей, он почему-то совсем не боится. Но это вовсе не значит, что пожелай себе фон Тельвис новый замок поставить, так он не поставил бы. Уж деньги у графа имелись, в этом Волков убедился, как только вошёл в главную залу графского дома. Большие резные двери, что вели с балкона в залу, были распахнуты настежь, и у каждой двери стояло по два лакея в хорошей одежде, а едва он сделал шаг через порог, как его тяжёлый бронированный башмак сразу утонул в высоком ворсе огромного и очень красивого ковра. А ещё зал был отлично освещён, так как половина старой стены была снесена, и её заменили большие, современные окна. Света было много, так что Волков успел скользнуть взглядом по стенам, сплошь завешенным великолепными гобеленами, которые прерывались лишь в месте древнего и огромного камина, в котором на вертеле можно было зажарить целого кабана. А ещё прямо под окнами стоял большой стол, накрытый скатертью, а на нём серебряная посуда, а среди серебра дорогое цветное стекло. Нет, нет… Граф вовсе не был беден.
Все вошедшие стали снимать свои шлемы и подшлемники, а Волков и так был без шлема, он отдал его Хенрику ещё во дворе и теперь оглядывал залу: ну и как тут у графа?
И вот у стола-то он и увидал женщин, они стояли в светлых платьях, прекрасно освещённые лучами солнца, что падали из больших окон. Эти женщины буквально купались в свете и были необыкновенно живописны, хоть художника зови. Дамы почти светились, сияли… И поначалу Волкову, вошедшему в залу, даже было не разглядеть их как следует, пока глаза не привыкли. Но дамы не стали дожидаться, пока генерал их рассмотрит, и двинулись к нему сами.
Он сразу услыхал их лёгкий смех, которым красавицы нередко скрывают своё смущение. И тогда мальчишка-паж, шедший впереди генерала вместо мажордома, объявил громко и немного фамильярно:
– Маркграфиня, графиня… Вот… Это барон фон Рабенбург, рыцарь, что путешествует через наши земли на запад, в сторону гор. Зачем – не знаю. А с ним его люди.
И тут, когда дамы подошли поближе, Волков разглядел этих… ангелов. Настоящих красавиц, таких, что были одна прекраснее другой, но сказать, кто лучше, просто невозможно. Обе уже не были молоды, так как переступили черту тридцатилетия. Но что касается привлекательности, то это были женщины, вступившие в возраст, который многие мужи посчитают наижеланнейшим. А их платья только подчёркивали их формы. Нет, то не были тяжёлые и многослойные платья северянок, что кутают себя и в холод, и в зной в тяжкие сукна и плотную парчу. То были платья изумительного, невесомого шёлка, что был разукрашен удивительными цветами и невиданными птицами и почти не шуршал при ходьбе. Да ещё и шли они по толстому ковру, так что движения их были беззвучными и лёгкими. Истинно ангелы в дивных одеждах и ослепительных солнечных лучах плыли к старому солдату, беззвучно, а слышны были только их звенящие серебром голоса:
– Ах, барон, ну наконец-то!
– Супруг мой, отчего же так долго вы не вели к нам такого рыцаря, и в доспехах ещё, как будто с поля брани к нам попал сразу?
– Ах, простите меня, дорогие мои госпожи, – с поклоном оправдывался граф Тельвис. – Дорога до постоялого двора была не близка, хорошо что хоть успел застать барона не в пути, а когда он только собирался ехать.
– О, барон, – одна из дам наконец вышла из ослепительного света и стала доступна его взору. – Вы так мужественно выглядите в этих прекрасных доспехах…
И тут Волков почувствовал себя, мягко говоря, немного… нелепо. На дамах едва ощутимые, почти прозрачные в свете солнечных лучей шелка, сам граф и его паж тоже одеты весьма изысканно, а он и его оруженосцы словно к битве приготовились…
А женщины, стоявшие перед ним, были так прекрасны. Так прекрасны, что не уступили бы в красоте самой графине фон Мален. В нынешнем её состоянии. Их удивительные платья в открытости своей едва-едва удерживали их формы в рамках хоть каких-то приличий. И в этих дамах было, кажется, всё прекрасным: и их одежды, и их высокие причёски, и то, что волосы их не были покрыты даже самой лёгкой тканью, что еще больше подчёркивало открытость и даже некоторую фривольность…
«Осталось только надеть подшлемники, нахлобучить шлемы – и всё… Можно доставать оружие и начинать резню. Доспехи, оружие, заряженные пистолеты в сумке на груди у фон Флюгена…».
Но об этих его мыслях графиня, конечно же, ничего не знала и поэтому, подходя ближе и протягивая ему руки в перстнях, говорила:
– Но… боюсь, что вам будет немного жарко в этих латах, так как мы не собираемся сегодня вас отпускать.
Генерал взял её за руки и поцеловал с поклоном сначала одну, потом другую, но так как задерживаться здесь он не хотел, а хотел лишь забрать отсюда маркграфиню Винцлау, тут же начал говорить что-то нелепое:
– К сожалению, мы вынуждены… Мне нужно… У меня не так много времени… Мне очень жаль, графиня.
А тут проклятый наглый паж ещё и добавил барону неловкости:
– Да он вообще ехать не хотел, пока граф ему не сказал, что маркграфиня гостит у нас.
– Ах, как жаль, – тут же расстроилась графиня, но своих рук у него не отняла и, сжимая его пальцы своими, продолжила дивным серебряным голоском: – Мне так печально это слышать. Мы тут живём в этой глуши… Живём очень одиноко, на западе от нас горцы, соседи унылые и такие грубые, что, даже заходя к нам в гости, жен своих оставляют телеги сторожить во дворе, даже в холод, как будто у нас дворня ворует… – она морщит свой прекрасный носик в пренебрежении, – всё сплошь купцы да скотоводы с гор; на востоке лишь горожане да фермеры, из чёрного люда выбившиеся, они тоже не очень жалуют благородных людей из-за своей зависти. Даже серебро их не вылечивает от грубости. Сколько бы ни богатели, а всё как были хамами и бюргерами, так ими и остаются. И так редко мы тут видим путников равного нам достоинства, да ещё таких знатных воинов, как вы.
И Волкову тут стало совестно, и он было хотел что-то ей ответить, но она продолжила, чуть обернувшись ко второй даме:
– Ваше Высочество, этого рыцаря мы видим только благодаря вам, он по вашу душу явился, дозвольте ему хоть руку вашу поцеловать.
И тут к нему подошла вторая дама, обдав барона благоуханием великолепных духов и одарив лучезарнейшей улыбкой из алых губ и идеальных зубов.
– Ну, хоть так нам удалось заполучить такого гостя, – ещё более мелодичным, чем у графини, голосом произнесла госпожа Винцлау. Она протянула ему руку, руку настоящей принцессы. Пальцы её были усыпаны драгоценными камнями. А сама рука необыкновенно нежна. И барон фон Рабенбург снова целовал женскую руку, и вовсе не потому, что так принято или что того требует этикет; он прикоснулся губами к самым кончикам её пальцев, потому что от них так приятно пахло, а ещё потому, что ему было это делать в удовольствие.
Потом, когда Волков поднял на неё глаза, он вдруг заметил, что глаза маркграфини сияют, щёки её, кажется, тронул чувственный румянец, а её весьма заметная грудь вздымается глубокими вздохами; и она с едва заметным смущением говорит, обращаясь непосредственно к нему:
– Дорогой барон, вы словно лучший доктор, уже месяц я не чувствовала себя так хорошо, как сегодня.
Она говорит, а он смотрит на неё, не отрывая глаз, лишь переводит их: то посмотрит на изящную диадему, что укрепляет причёску прекрасной женщины, то поглядит на ангельское лицо, то опять, опять смотрит на её плечи и грудь.
«Неужели эта женщина так улыбается мне? – не понимал Волков. И тут же убеждал себя: – Ну смотрит-то она точно на меня! И говорит, кажется, со мною».
А графиня фон Тельвис тем временем заметила преображение в своей гостье и произнесла с едва уловимой иронией:
– Ваше Высочество, вы горите, что ли, у вас краска на лице взыграла… С первых дней болезни вашей такого с вами не было, всё время бледны были.
– Ах, и правда, – принцесса прикладывает руку к своим щекам, то к одной, то к другой, словно проверяя их температуру, и продолжает смущаясь, – словно горю отчего-то.
Её необыкновенно открытая грудь вздымается так, что Волков ловит себя на мысли, что ему хочется положить на неё ладонь, чтобы чувствовать эти колыхания. Чтобы провести грубой, мужской, солдатской ладонью по всему полю этой прекрасной, без единого изъяна кожи, от правой ключицы через выраженную ложбинку до левой ключицы, и вернуться снова к середине, чтобы в самую середину опустить палец или даже высвободить тело женщины из одежд. Высвободить и взять её грудь снизу и чуть приподнять, чтобы почувствовать у себя в руке её упоительную тяжесть. И при этом ещё видеть удивительные глаза этой прекрасной женщины и находить в них одобрение этих сладостных и порочных прикосновений, а может быть, даже и желание продолжать их.
– Я и правда горю, – говорит маркграфиня, глубоко дыша, – но это, кажется, не от болезни… – она подыскивает слова, глядя Волкову прямо в глаза, и договаривает: – То, наверное, от жары.
– Так раз от жары вы горите, принцесса, – снова напоминает о себе наглый паж, – так выпейте вина, оно только что из подвалов, поди холодное.
– Именно! – восклицает граф. – Конечно, вина! Слышите, лакеи, вина всем, в дороге было жарко и пыльно. Барон, господа, прошу всех за стол, – он начал отдавать распоряжения.
И тут опять заговорил Виктор. Он уже сидел за столом вполоборота ко всем, ковырялся щепочкой в зубах и говорил громко:
– Про обычай долины Тельвис позабыли вы все, видно?
– Ах, да! – воскликнула красавица хозяйка. – Уж и правда, забыли, – она оборачивается к лакеям и приказывает: – Чашу сюда!
– И побыстрее! – подгоняет слуг хозяин дома.
Глава 2
Волков и три его оруженосца, не понимая, в чём дело, уже было пойдя к столу, остановились в ожидании. А один из лакеев вытаскивает из ящика для посуды что-то завёрнутое в тряпицу, снимает материю и вытирает ею роскошную золотую чашу. А к нему уже подбегают ещё два лакея, один с серебряным подносом, второй с кувшином вина, и вот уже золото стоит на серебре и наполняется рубиновым вином из узорчатой глины. А как всё было готово, графиня фон Тельвис забрала у них поднос и сначала вроде как пошла к барону, но вдруг остановилась рядом с госпожой Винцлау и передала поднос ей со словами:
– Думаю, что скорее из ваших рук, Ваше Высочество, барон предпочтёт принять гостевую чашу.
– Из моих? – удивилась красавица. – Но я же…
Не успела принцесса договорить, как графиня передала ей поднос с чашей, и ей пришлось его принять. Но взяв в руки поднос, красавица уже не мешкала и не удивлялась, а повернулась к Волкову и с книксеном поднесла ему поднос с прекрасной чашей.
– Барон фон Рабенбург, – громко произнесла графиня фон Тельвис. – Не каждому проезжающему путнику гостевую чашу преподносит сама принцесса Винцлау.
Что уж тут ещё можно добавить, генерал немного даже обомлел, да, чашу перед ним держала сама Клара Кристина Оливия графиня фон Эден маркграфиня Винцлау. И это бы ещё не так смущало генерала, ну что ж, принцесса так принцесса, вот только эта принцесса была ещё и самой красивой женщиной, которую он когда-либо видел, и её неприлично открытые плечи, её роскошная грудь волновали Волкова больше, чем все титулы, а её необыкновенно ласковая и, кажется, многообещающая улыбка будоражила его кровь, а ещё… сбивала с толку.
«Уж больно она красива! Так красива, что даже Брунхильда перед нею кажется рябой бабёнкой из захудалого городка».
– Ну, барон, не стесняйтесь, – смеялась графиня фон Тельвис, видя некоторое его замешательство. – Принцесса ждёт, пока вы возьмёте чашу, – и добавляла многозначительно: – Или вы не знаете, барон, что женщины очень не любят, когда их вынуждают ждать?
– Ах да… Конечно, – барон уже протянул руку к чаше, едва не коснулся её и вдруг остановился. Он снова поглядел на улыбку маркграфини. И не нашёл в ней ничего, что хоть как-то могло его насторожить. Это была благосклонная улыбка красивой женщины, которая ожидала его поступка.
Но что-то, что-то было во всём этом действии… небывалое. Впрочем, почему небывалое… Долина, горы, солнце, пять деревень, дорога…
«Живут в большом достатке, врагов, кажется, нет, вот и сходит с ума от скуки и рада любому гостю?».
И всё-таки… всё-таки… он чувствует, что чего-то не хватает в этом прекрасном приёме. В этих радушных людях… И он снова осматривает красавицу маркграфиню.
– Барон, – теперь говорит сам граф. – Что-то не так?
Он всё ещё улыбается и, кажется, не понимает заминки Волкова. А тот тоже улыбается ему и, чуть обернувшись назад, обводит взглядом всех собравшихся в этом прекрасном зале и своих оруженосцев, также рядом он видит Гулаваша с двумя его сержантами и четырёх лакеев у дверей, и, казалось, все они ждут, ждут, когда он наконец возьмёт чашу с подноса, который держит перед ним сама принцесса Винцлау. А ещё барон видел пажа, видел его какое-то одно скоротечное мгновение. Но и того ему было достаточно, чтобы паж его удивил, так как не был наглец, в своём обыкновении, видом расслаблен и поведением лёгок, а сидел он у сервированного стола в свете лучей солнца, напряжён и будто бы скукожен от ожидания, при том пристально и неотрывно глядел на барона своими подкрашенными углём глазами.
«С таким ли видом ждут хозяева, пока гость не выпьет вина?».
Может, и не с таким; впрочем, что Волкову было до какого-то пажа, когда перед ним, словно бриллиант на солнце, сияла прекрасная принцесса. И он снова глядит на неё, и в её игривом взгляде читает будто:
«Ну что же вы медлите, барон? Или вы и в прочих делах столь же нерасторопны?».
И Волков тут уже устоять не может и касается пальцами чаши, но в последний момент, когда кожей он почувствовал благородный метал драгоценного кубка, он снова взглянул на великолепную грудь маркграфини… И понял…
Вот! Вот что его смущало с самого начала, но он ещё не мог о том задуматься, не успевал…
Маркграфиня Винцлау недавно похоронила мужа, потом ездила на богомолье в далёкий монастырь, траур свой обмаливать, да ещё и заболела на обратной дороге. То есть женщина, много пережившая за последнее время и, скорее всего, истинно верующая, и вдруг стоит перед ним в таком открытом платье, и ладно бы просто платье, главное – на груди её нет… распятия.
«Как-то всё это странно, уж либо ты богомолица, что по монастырям ездит и траур по мужу выдерживает, либо придворная дама, что в полупрозрачном платье проезжим рыцарям кубки подносит с улыбками многозначительными».
И как только он вспомнил про распятие и про траур маркграфини, как в мыслях его медленно, буква за буквой, стало вырисовываться страшное слово…
Морок.
Морок! Именно морок. Ну а как же иначе? Как земные женщины могут красотой своей сравнимы быть с ангелами? Как могут они быть так прекрасны, что от них не хочется отводить глаз? А хочется тянуть к ним руки и прикасаться к их божественным телам.
«Наваждение. Господь милосердный, никак иначе!».
И тут он понимает, всё ещё глядя на улыбку маркграфини, что нужно от этой чаши, что поднесена ему, отказаться. Но вот сил и духу у него на то не хватает, чтобы вот так вот взять и сказать об этом напрямую… Понимание опасности у него уже есть, а вот сил отступить от края… Как отринуть чашу? Когда такая красота ждёт, что ты её вот-вот примешь… А принцесса Винцлау и вправду ждёт… И тут ему вдруг приходит в голову простая мысль, мысль такая лёгкая, что он находит в себе силы перевести её в слова, и он говорит:
– Маркграфиня, Ваше Высочество, окажите мне великую честь… Сделайте из чаши первый глоток…
А та то ли не расслышала его слов, то ли не сразу поняла… Красавица так и держит перед собой поднос и, продолжая улыбаться, спрашивает коротко:
– Что?
И тут, то ли пелена с его глаз начинает сползать, то ли силы разума стали возвращаться к генералу, и он уже увереннее, а главное, твёрже говорит принцессе:
– Уверен я, нет в мире слаще вина, чем после ваших губ, моя госпожа, – тут он ей кланяется, не сводя с красавицы глаз, – прошу вас, принцесса, сделайте первый глоток из этого кубка.
И вот тут улыбка почти сползла с лица красавицы, несколько секунд она просто стояла и смотрела на генерала, а потом поворотила голову к графине фон Тельвис, и в глазах у неё был немой вопрос: ну и что теперь мне делать?
А солнечный свет, заливавший залу, вдруг слегка померк, словно солнце заслонили тучи, и лица двух прекрасных дам потемнели, и повисла в зале необыкновенная тишина; и в этой тишине, в которой и лёт мухи был бы всем слышен, вдруг раздался знакомый для генерала щелчок.
И уж этот лёгкий и короткий звук придал ему таких сил, таких, каких не придала бы даже боевая труба, сыгравшая «атаку». И он знал, что могло так щёлкнуть… Это был звук взводимого курка пистолета, одного из тех, что лежали в сумке на груди фон Флюгена.
«Молодец мальчишка! Всё верно понял, всё правильно оценил!».
И вот то, что его люди с ним и что люди те проверены в делах неоднократно, ещё больше добавило ему сил. И тут уже генерал видел, как растворяется морок, в котором он пребывал до сих пор, как уходит наваждение… Особенно после того, как графиня фон Тельвис сказала маркграфине:
– Дорогая принцесса, так отпейте из чаши, раз гость о том просит.
И вот пелена совсем сошла с его глаз, и он увидал, как одна женщина удивляется совету другой:
– Что? Мне отпить?
Удивляется искренне, а первая продолжает её просить, и просит уже, кажется, настойчиво:
– Отпейте же, отпейте!
Последнее слово прекрасная графиня фон Тельвис почти прошипела, но в ответ получила невежливое, едва ли не грубое:
– Сами отпейте!
И при этом маркграфиня сунула поднос с чашей хозяйке дома: на, забери себе. И снова раздался щелчок, то фон Флюген, храбрый, но безалаберный оруженосец Волкова, взвёл курок и на втором пистолете. А сам генерал краем глаза увидел, как паж Виктор, тот, что весь изнежен и нагл, встал со своего стула и бочком, бочком уже медленно двинулся к выходу в боковые комнаты, из которых лакеи выносили кушанья.
«Мой шлем… Он у Хенрика…».
Волков не успел отвести взгляда от пажа – и даже не успел взглянуть на дам, между которыми разве что молнии не сверкали, как в зале тихо взвизгнуло колёсико пистолета…
Вссссынь…
И через секунду грохнул выстрел…
Пахх…
И пороховые искры разлетаются в разные стороны, клубы дыма накрывают генерала сзади, а на щеку ему падают горячие, липкие капли… Волков, вытягивая из ножен меч, сразу обернулся и увидал развороченное выходом пули лицо коннетабля земли Тельвис; на месте его левого глаза и левой скулы багровела страшная, разорванная рана, сам он выронил из руки кривой кинжал, а потом колени его подогнулись, и он рухнул на ковер замертво.