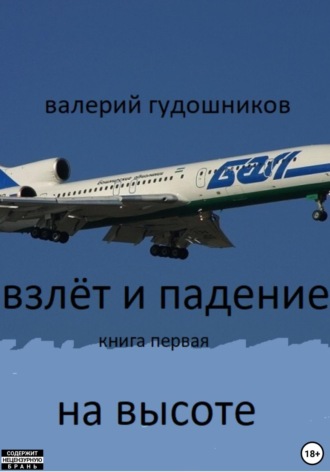
Полная версия
Взлёт и падение. Книга первая. На высоте
Инструктор Васин выполнял сейчас обязанности второго пилота. Вырулили на полосу.
Прогрели двигатели, проверили их на виброскорость и прочитали контрольную карту.
– Доложить готовность к взлёту!
– Механик – готов!
– Штурман – готов!
– Справа – готов!
– Слева – готов!
– Сто семнадцатый к взлету готов! – доложил Васин диспетчеру.
– Взлёт разрешаю, – раздалось в наушниках и в динамиках громкой связи. – После взлёта – двести правым.
– Экипаж – взлетаем! Взлётный режим! РУДы – держать! Фары – большой свет! – подал команды Доронин. Самолёт начал разбег.
За самолётом – свит и грохот. Тридцать тысяч лошадиных сил впряглись в работу. Машина, сначала словно нехотя, потом всё стремительней понеслась по бетонке. Почерневшие от накатанной резины плиты и огни полосы слились в как бы вращающуюся ленту. Отсчёт времени пошёл по секундам.
– Скорость растет, – забубнил Ипатьев. – Сто пятьдесят… сто девяносто, двести десять… двести пятьдесят… двести семьдесят…
Вибрация колёс на стыках бетонки на такой скорости уже не ощущается.
– Скорость – двести восемьдесят, – доложил штурман. – Решение?
– Взлёт продолжаем! – ответил Доронин, слегка прибирая штурвал на себя, чтобы разгрузить переднюю стойку шасси и приготовить самолёт к подъёму. Сейчас последует такая команда. К ней надо быть готовым и выполнить немедленно. Задержка на полосе чревата на такой скорости неприятностями. Превысишь скорость движения, и резина колёс может не выдержать и такого натворить. Достаточно вспомнить жуткую катастрофу французского «Конкорда». Впрочем, там не в скорости дело было.
– Подъём! – проорал Ипатьев.
Доронин плавно потянул штурвал, и самолёт с готовностью отделился от полосы. С этого момента полёт осуществляется только по приборам. Скорее выше и прочь от земли. Васин страховал каждое движение стажёра, готовый вмешаться в управление, но такой необходимости не было.
– Шасси – убрать!
Пашка мгновенно выполнил команду. Высота и скорость стремительно нарастали. Мощные лучи фар, освещавшие полосу на разбеге, сейчас упёрлись в небо и отражались в тёмной кабине, наводя блики на стёклах приборов, и Эдуард дал команду их выключить.
– Высота – сто двадцать, скорость – триста сорок, – доложил штурман.
– Закрылки – убрать! Стабилизатор – ноль! Установить номинальный режим!
Ну, вот и весь взлет. И занял он всего секунд сорок, пятьдесят. И ради вот этих секунд лётчик учится годы. Теперь счёт пошёл на минуты.
Доложили диспетчеру круга о взлете, получили условия выхода и набора высоты. Упираясь левым крылом в небо, самолёт ложился на заданный курс.
– Занимаем на выход 7200 метров, – предупредил штурман.
Команду продублировали оба пилота. Пашка установил на высотомере задатчик высоты на заданное значение. Вошли в облачность, и тут же загорелось ярко-красное табло «Обледенение».
– Противообледенительные системы включить полностью, – приказал Доронин. Пашка пощёлкал тумблерами и доложил о включении.
– Штурман, как по курсу?
– Чисто, – отозвался Ипатьев. Это означало, что впереди нет мощной кучевой облачности, вход в которую категорически запрещён. – Готов взять управление.
Эдуард включил автопилот и нажал кнопку передачи управления.
– Управление взял! – тут же отозвался Ипатьев.
Теперь все эволюции по курсу с помощью автопилота выполнял Ипатьев. На высоте пяти километров вышли из облачности и табло «Обледенение» погасло. По команде механик выключил ПОС.
Большой свет в кабине не включали обычно до набора заданного эшелона. Тусклым светом светились только многочисленные лампочки и табло. В их рассеянном свете не рассмотреть лиц пилотов. Они сидели в своих креслах неподвижно и, казалось, что все спят. Это потому, что сейчас никаких движений делать не требовалось. Есть такие спокойные минуты полёта. Основная работа пилотов на взлёте и на посадке. Особенно на посадке. Да ещё ночью в грозу, когда за бортом – аспидно-чёрная ночь и вспышки молний, словно перед носом работает гигантская электросварка. Вспышки молний ослепляют так, что перестаёшь видеть приборы. Болтанка постоянно сбивает с заданного курса и штурман то и дело вносит поправки. Курс нужно выдерживать строго. Иначе никогда не попадёшь на полосу.
Невозможно описать состояние пилота, когда он, вцепившись в штурвал, пилотирует самолёт в такую погоду. Но можно сказать одно: никаких эмоций он в этот момент не испытывает – некогда. Всё отдано пилотированию. Эмоции будут потом. Ну а нервы? Да кто же знает, им не придумали единиц измерения. Напряжение колоссальное и его нельзя испытывать часами. Организм откажется работать, включив биоблокировку. Но заход на посадку скоротечен и это спасает от перегрузок. А потом не каждый раз ведь случаются такие ситуации. Может два-три раза в году. Но такие полёты не забываются.
Авиационная медицина утверждает, что после таких посадок давление и пульс (доходит до 200 ударов в минуту) восстанавливаются только через 30-40 минут. Это уже стресс. Меняется тембр голоса. А после длительных полетов через несколько часовых поясов «отходняк» может длиться сутки и больше.
Конечно авиация нынче совсем другая. Когда-то самолёты не умели летать в облаках. И горе было туда попавшему. Не умели они летать и ночью. Но находились смельчаки, которые влезали в облака. Вероятно, тогда и родилась пословица, что авиация – это удел тупых и храбрых. Ну, что храбрых – понятно. Но вот тупых? Даже обидно за коллег. Но никто остроумней пилота не скажет о своей работе, чем сами пилоты.
Да, были в авиации бесшабашные, храбрые, отважные и… тупые. Затрудняюсь сказать, к какому виду отнесла бы современная инспекция всем известного В. Чкалова, летающего под мостами. Или «химиков», ныряющих на высоте одного метра на многотонных машинах под высоковольтные провода. Да, всяких хватало. Путь в небе усеян костьми десятков тысяч лётчиков. Некоторых по собственной глупости и… тупости.
А всё дело в том, что в одно теперь уже далёкое время бытовало мнение, что пилоту не обязательно знать материальную часть, как не обязательно её знать владельцу личного авто. Научили ездить – и ладно. Дескать, гудит оно – пусть гудит, летит – ну и пусть летит. Твоё дело, лётчик, управлять машиной, а не задумываться над вопросами гудения и летания. За тебя это уже обдумали. И действительно нужна была особая храбрость (или тупость), чтобы подниматься в воздух на аппарате, который тебе и известен-то только тем, что способен летать. А на такую храбрость, по мнению лётчиков, способны только тупые. Не отсюда ли родилась присказка: «Было у матери три сына, два – нормальные, а третий – лётчик». Однако этот процесс закончился тем, что тупых в кабины самолётов пускать перестали. Но дров успели наломать нимало.
В наш век это даже невозможно представить. Нынче лётчик – это директор летающего завода со знанием метеорологии, электроники, спутниковой навигации, аэродинамики и термодинамики, медицины и химии. Конечно, перечислено далеко не всё. Чтобы освоить профессию пилота – нужны годы. И только тогда, как говорил незабвенной памяти преподаватель Краснокутского лётного училища Николай Михайлович Карпушов, ты можешь сказать: я – лётчик. И то пока шёпотом, из-за угла.
Высокопрофессиональными лётчиками становятся после восьми-десяти лет ежедневной практической работы. Как правило, это пилоты первого класса.
Набрали заданный эшелон 10600 метров. Доронин включил корректор высоты автопилота, потряс слегка штурвал – работают ли рулевые машинки – и откинулся на спинку кресла. Теперь можно немного отдохнуть. Двигателей, переведённых на маршевый режим, в кабине не слышно. Только приглушённый шум воздуха, обтекающего кабину со скоростью 800 километров в час. Полёт был абсолютно спокоен. Самолёт словно застыл в черном, словно печная сажа, небосводе.
Васин так ни разу и не вмешался в управление. Он отодвинул своё кресло назад до упора и вытянул насколько возможно ноги. Последнее время стало ломить колени, если они долго были в полусогнутом положении. Привычно пробежал глазами приборы. На это хватило секунды. Включил большой свет кабины, скосил глаза на стажёра. Тот сидел, откинувшись на спинку кресла и лицо его было каким-то отрешённым, Казалось, он был далёк от полёта и думал о чём-то постороннем. Но Васин знал, что это не так. Эдуард всегда после набора высоты прокручивал свои действия, начиная от запуска двигателей. Сейчас он закончит свой мысленный анализ и заговорит с Устюжаниным. Молодёжь не может долго молчать.
А бортмеханик сосредоточенно уставился в лобовое стекло кабины, словно пытаясь там что-то рассмотреть. Видно там ничего конечно не было. Чернильная пустота, за которой чувствовалось холодное дыхание ближнего космоса. Может быть, это от понимания того, что здесь, на этой высоте никакая жизнь ни одного существа уже невозможна.
Ну, механику теперь можно позволить себе и помечтать, и забыться. Самолёт летит сам, без их участия. А управляет им полностью Ипатьев с помощью маленькой кремальеры своего навигационного прибора. Да и вообще сейчас работает только штурман. Он связывается с наземными системами навигации. Снимает показания приборов, сличает с заданными. И тем самым определяет своё место на трассе. Он же следит и за энергетикой самолёта, поскольку все приборы в его кабине. Там же стоит и локатор, в который нужно периодически поглядывать, чтобы не попасть в грозовую облачность. Всю радиосвязь с землёй, кроме взлёта и посадки, также ведёт штурман. На эшелоне у штурмана много работы. Это лётчики знают и без необходимости его не отвлекают.
Доронин закончил свой анализ и зашевелился в кресле.
– Саня, как путевая у нас?
– Девятьсот! Отозвался штурман. – Попутный дует. Когда жрать-то будем? Сил нет от нашего общепита.
– Скоро, – пообещал Эдуард. – Умереть не успеешь. Пашка, – толкнул локтем механика, – давай делом займёмся, пока девчонки кушать не принесли.
Заняться делом на эшелоне означало заняться… писаниной, которой много у всех, кроме Васина. Он, как командир, этим не занимался, а только подписывал то, что ему услужливо подсовывали члены экипажа. Больше всего бумаг было у второго пилота, и их иногда называли бухгалтерами. Они считали количество керосина и багаж, количество почты и груза, количество пассажиров и ручной клади. Потом считали окончательный взлётный вес самолёта. Потом всё это заносили в полётное задание, напоминающее портянку средних размеров или учетный лист трудодней колхозного бухгалтера. Сюда же вносилось количество налётанных за рейс километров, время взлётов и посадок в каждом аэропорту, время наработки двигателей на земле и в воздухе и многое другое. Заносилось также полётное и общее время работы экипажа. Дневное и ночное. Всё отдельно. Всё это надо считать. У механика была своя писанина, у штурмана – своя. Чем больше посадок за рейс – тем больше и писанины.
После завершения рейса все эти бумаги, подписанные командиром (как правило, за него расписывались, чтобы не создавать лишней суеты в кабине), сдавались второму пилоту. Он скреплял их и сдавал в определённое место вместе с полётным заданием. Иногда, не успев оформить все бумаги в полете, они «долётывали» уже в штурманской. И этим вызывали ехидные насмешки коллег. Набиралась увесистая пачка из 30 и более бумажек. К тому же в последнее время к заданию по указанию командиров стали прикреплять свои документы и проводники на бортовое питание. А это ещё 20 бумаг. Не прикреплялось к заданию разве что количество используемой пассажирами туалетной бумаги. Её-то и предлагал прикреплять к заданию Пашка в качестве рационализаторского предложения.
И не дай бог, если во всей этой макулатуре, пилот совершал ошибку. Или какую-то бумажку терял. Будут склонять на разборах эскадрильи и лётного отряда, занесут в месячные и квартальные отчёты. И всюду будут упоминать фамилию командира.
В дверь постучали, и Пашка открыл защёлку.
– Мальчики, кушать готовы? Принимайте!
– Всегда готовы, кормилица наша.
– Я волком бы выгрыз… – вздохнул Доронин, откладывая бумаги.
– Я тоже, – согласился механик. – Что там у нас? Опять курица?
– Я не жратву имею в виду, а бюрократические бумаги.
– Правильно, – поддакнул штурман, принимая поднос с ужином. – Это только бюрократам непонятно, что если ветер северный, то дует он на юг. Так нет же, это написать надо, так не верят. Люся, а вместо чая кофе можно?
– Кому ещё вместо чая кофе?
– Всем давай. И покрепче, – распорядился Васин.
– Поняла, товарищ командир, – крутнулась в проходе кабины девушка, задержав на секунду взгляд на Доронине.
От Васина не укрылся этот взгляд, как и то, какими глазами смотрел на девушку бортмеханик.
– Нравится? – спросил Пашку, кивнув на дверь, где скрылась их кормилица.
– Кто? Эта?
– Эта, эта.
– Гм, мне все нравятся. А тебе, Эдик?
– Мне – тоже.
– Какой любвеобильный у меня экипаж. Жениться вам надо, друзья мои.
– Спасибо за совет, командир, – ответил Доронин, вгрызаясь в курицу. – Лично я один раз уже пробовал.
– Вот, вот, у него опыт, – поддакнул Устюжанин, – а я предпочитаю учиться на чужих ошибках.
– Ты где живёшь-то после развода? – спросил Васин, запивая соком никак не желавшую проваливаться в желудок курицу. Он знал, где обитает его стажёр, а спросил так, чтобы тот разговорился.
– А всё там же, – махнул Эдуард рукой с зажатой в ней вилкой в сторону форточки. Герард и Пашка проследили за его рукой.
– Понятно объяснил. Где это, там?
– Снимаю конуру у одной любвеобильной старушки.
– Любвеобильной, говоришь? Хм, – Васин почесал вилкой губу. – Годочков-то сколько старушке?
Доронин удивлённо посмотрел на командира.
– Да ты что, шеф? Старушке за семьдесят. К богу она любвеобильна.
Снова вошла проводница.
– Ваше кофе, мальчики.
– Спасибо милая, – поблагодарил Васин.
– Больше ничего не нужно?
– Разве что меня поцеловать, – предложил Устюжанин.
– Потерпишь.
Поужинали. Всё та же Люся унесла подносы и ещё несколько раз без видимой причины заходила в кабину. То справлялась о погоде в Краснодаре, то о температуре за бортом. Она обращалась к командиру – этикет есть этикет, но Васин кивал на Доронина. Дескать, командир сейчас он, раз в левом кресле сидит. А тот довольно равнодушно отвечал ей и отворачивался.
– Нравишься ты ей, – сказал Герард стажёру. Тот равнодушно пожал плечами.
– Мы все кому-то нравимся, – философски ответил за Эдуарда механик.
– Саня, сколько ещё лететь осталось?
– Через час двадцать будем на месте. – Погоду не слушали?
– Сейчас послушаем, – ответил Васин и включил КВ-станцию, настроив на региональный канал, который беспрерывно передавал погоду всех южных аэропортов.
Сквозь треск и шорохи эфира просочился женский голос, сообщающий метеоусловия: облачность, видимость, ветер, температура… Доронин с Пашкой закончили писание бумаг и тоже стали вслушиваться.
– Плюс пятнадцать, – вздохнул механик. – Это ночью. А днём? Живут же люди!
– Ты лучше послушай, какую видимость дают. Тысячу двести. А вылетали – больше десяти было.
– А какой у нас запасной? – засуетился Пашка и стал замерять остаток топлива.
– Сочи. Там хорошая погода.
Штурман доложил, что попутный ветер стихает, и скорость упала до 830 километров.
– Ну и ладно, – принял к сведению Васин, – хорошим людям некуда торопиться.
И в это время резко постучали в кабину. Пашка открыл дверь, и снова вошла Люся, но не уверенная в себе, хозяйка салона, а какая-то испуганная.
– Герард Всеводолович, рожает!
– Кто? Штурман? – шутливо спросил он, не вникнув в суть доклада. – Он не может.
– Шуточки вам. Пассажирка у нас рожает.
Такого ещё не было. То есть и раньше, случалось, рожали в самолётах, но у них не было.
– Она что же, совсем рожает? – уточнил Васин. – Подождать не может?
– Товарищ командир! – укоризненно произнесла девушка. – Не совсем не рожают. Схватки у ней начались.
– Вот это номер! – отвисла челюсть у Устюжанина. – А какого хрена она в самолёт полезла, если ей в роддом нужно?
– Вот этого я не знаю, – отмахнулась проводница и запричитала: – Товарищ командир, что делать?
– Принимать роды, – неуверенно проговорил Васин и посмотрел на механика.
– Кому? – ахнул Пашка. – Нам что ли? Ну и рейс подсунули!
Обычно в каких-то щекотливых ситуациях возникающих во время полёта в салон посылают разбираться механика, и Пашка решил, что Васин его сейчас и пошлёт. Он заныл:
– Командир, я лучше сам рожу, но роды не буду принимать. Пусть ждет до посадки.
– Люся, среди пассажиров врачи есть? – принял решение Васин.
– Есть, мы уже выяснили. Но один зубной, а другой ветеринар.
Пашка, сообразивший, что роды принимать его не пошлют, обрёл чувство юмора.
– Там, откуда дети появляются, не зубы растут, – рассудил он.
– Резонно, – согласился командир. – Но других нет. Люся, привлекай зубника. И ветеринара тоже. Они клятву Гиппократа давали, – привёл он, как ему показалось, веский аргумент.
– Ветеринар – вряд ли, – усомнился Доронин.
– Штурман, свяжись с Краснодаром, обрисуй ситуацию. Пусть скорую помощь к трапу подадут. Ну и всё остальное, что там положено. Когда начнем снижаться?
– Через полчаса.
– Понятно. А ты, Люся, из старых женщин привлеки кого-нибудь. Которые уже рожали. Они всё знают. Поняла? Другого выхода нет. Ну, иди, иди, командуй там.
– Боюсь я, Герард Всевдлч, – захныкала девушка.
– Иди, иди, милая. Не бойся. Тебе тоже предстоит это. Делай, как я сказал.
Люся вышла. Но минут через десять снова появилась в кабине. Все головы повернулись в её сторону.
– Рожает. Около неё две женщины и этот… ветеринар. Но он только у оленей роды принимал. Ой, что делается! Пассажиры уже и пелёнки нашли. Мы горячую воду приготовили…
– Ну и хорошо, – прервал её Васин. – Ступай в салон, мы сейчас снижаться начнём.
– До аэродрома – двести тридцать, – проинформировал штурман. – Через три минуты расчётное снижение.
Быстро прочитали контрольную карту перед снижением. Далёкий голос диспетчера приказал сразу снижаться до эшелона перехода. Им давали зелёный свет.
– У нас видимость девятьсот метров, туман. Синоптики прогнозируют ухудшение. Ваш запасной?
– Запасной – Сочи, – ответил за штурмана Васин. – Но мы намерены садиться у вас при любой возможности. На борту нештатная ситуация.
– Извещён, – коротко ответил диспетчер. – Погода пока позволяет, но туман быстро сгущается.
Выключили большой свет, прибрали режим двигателям. Самолёт со скоростью 15 метров в секунду устремился к земле. На высоте трёх тысяч вошли в рыхлую облачность. Началась слабая болтанка. Доложили высоту эшелона перехода.
– Видимость на полосе 800 метров, – ответил диспетчер подхода. – Работайте с кругом.
Диспетчер круга подтвердил видимость и приказал снижаться до 500 метров к четвёртому развороту. Переставили давление на аэродром посадки и продолжили снижение. Земли не видно, внизу плотная пелена тумана. Теперь полетом полностью распоряжались лётчики. Систему управления самолёта штурманом отключили. Он сейчас мог корректировать курс, подавая команды.
– Пятьсот заняли, – предупредил Ипатьев. – До третьего разворота три.
– Шасси выпустить! – приказал Доронин, ни на секунду не отрываясь от приборов. -Стабилизатор – два с половиной градуса!
Внизу под полом кабины засвистело, словно там сидел доселе смирно соловей-разбойник. Это врывался воздух через открывшиеся створки передней стойки шасси.
– Третий разворот, курс сто сорок! – скомандовал штурман.
Выполнили разворот, выпустили закрылки. Теперь самолёт не несся, как на эшелоне, а как бы подкрадывался к посадочному курсу на малой скорости.
– Начало четвёртого, крен двадцать… поехали, – дал новую команду Ипатьев и подумал, что за это вырвавшееся «поехали» может получить дыню, когда начальники расшифруют полёт. Нарушение фразеологии. Ну да чёрт с ними. Первый космонавт земли тоже сказал это слово при старте и ничего.
Перешли на связь с диспетчером посадки.
– Продолжайте заход, – разрешила земля. – Учтите, на полосе предельная видимость.
Ваше удаление – восемнадцать, правее – девятьсот.
– Вас поняли, – с нажимом на последнее слово ответил Васин.
Подобный диалог означал, что видимость-то на полосе уже меньше минимума, но вас принимают, учитывая ситуацию на борту. Диспетчер как бы призывал их мобилизоваться на такую посадку. Ведь погоду меньше минимума он дать не мог, а если бы дал – обязан был бы отправить их на запасной аэродром. Конечно, командир может принять решение о посадке и хуже минимума, но только в чрезвычайной ситуации. К какой ситуации относить роды на борту, ни в одном документе не сказано. Доказывай потом инспекции, что ты не ишак. Чёрт бы побрал этот туман, наползший с недалёкого водохранилища!
А в этот момент в салоне появился нигде не зарегистрированный пассажир, заявив о себе громким «УА-А!». Кое-кто из пассажиров захлопал в ладоши.
Выполнили четвёртый разворот, выпустили закрылки в посадочное положение, прочитали контрольную карту перед посадкой.
– Эдик, пилотируешь до ВПР (высота принятия решения), – напомнил Васин. – Дальше – я. Нужно сесть с первого захода. Если не попадём на полосу с 30 метров – уходим на второй и в Сочи. Повторно при такой погоде нам зайти не дадут.
Всё это Васин произнёс, не нажимая кнопку внутренней связи. Для того, чтобы ничего не записалось на магнитофон. А «Марсами», слава богу, кабина не оборудована.
– Вошли в глиссаду, снижаемся, – скомандовал Ипатьев.
Доронин пилотировал по командным стрелкам, ведя самолёт по наклонной траектории к торцу полосы. Несмотря на работающий вентилятор, лицо его начало покрываться каплями пота, спина под рубашкой стала влажной. Такую посадку он на этом типе ещё не производил ни разу.
– Нормально идём, – сказал штурман, – на курсе, на глиссаде.
– Сто семнадцатый, шасси выпущены, к посадке готовы, – доложил Васин.
– Посадку разрешаю, – слегка затянув ответ, разрешил диспетчер.
Сейчас он впился глазами в экран своего посадочного локатора, контролируя движение самолёта по курсу и глиссаде. И стоит им выйти за предельные значения – тут же поступит команда уходить на второй круг. И повезут они новорождённого «зайца» в Сочи. Но они ещё не знали про зайца. Во время посадки проводникам запрещено отвлекать экипаж.
Резко зазуммерил динамик радиомаркера дальнего привода.
– Проходите дальний, на курсе, на глиссаде, – помогал диспетчер.
Самолёт тряхнуло в приземном слое инверсии. Сейчас будет смена ветра. В подтверждении этого тут же отреагировал штурман.
– Скорость падает. Ниже пошли… ниже десять!
Едва заметным движением штурвала Васин помог Доронину и добавил режим двигателей. «Надо было в автоматическом режиме зайти, – мелькнула запоздалая мысль. – Привыкли всё вручную делать».
По команде Пашка включил фары, но тут же поступила команда переключить их на малый свет. Большой свет создавал световой экран прямо перед носом самолёта. Высота 80 метров – земли не видно. Со скоростью 280 километров машина подходила к невидимой пока полосе. Это самый ответственный этап полёта. Если собрать пот всех лётчиков за всю историю авиации только на этом этапе, то Арал приобрёл бы возможно прежние очертания.
– Правее шесть, на глиссаде, – подсказал диспетчер.
– Высота шестьдесят, решение? – затребовал штурман.
– Держу по приборам, – предупредил Доронин.
Васин огней полосы не видел. И поэтому тянул с командой «Садимся!».
– Решение? – настойчиво потребовал Ипатьев.
– До полосы – пятьсот, – проинформировал диспетчер.
И в этот момент Васин увидел огни полосы. Собственно это были ещё не огни полосы, а огни подхода, но это уже не важно.
– Садимся! – запоздало произнёс Васин, когда самолёт уже находился над торцом полосы.
– Полоса перед вами! – подтвердил диспетчер. И хотя из своего пункта он видел только размытое световое пятно, несущееся к полосе, но был уверен: полосу экипаж уже видит.
– Скорость двести восемьдесят, – забубнил Пашка. – Высота десять, пять, три, один метр. Касание! Реверс!
Взвыли двигатели, создающие обратную тягу. Добрую треть полосы пробежали за несколько секунд. Доложили о посадке и получили номер стоянки и условия руления.
– Ну и посадочка! – слегка охрипшим голосом сказал Устюжанин, убирая механизацию. – Снимаю шляпу перед вами, лётчики.
– Посадка нормальная, – ответил Герард. – Бывает и хуже, но редко.
– Да уж! – промычал Доронин, и открыл форточку, украдкой смахивая пот с лица. В кабину пахнуло влажным и сырым южным воздухом.
– А видимость-то метров пятьсот, не больше. Ради беременной женщины, вы, отцы, урезали себе минимум на триста метров. Ждёт, не дождётся вас инспектор, – весело сказал Пашка.









