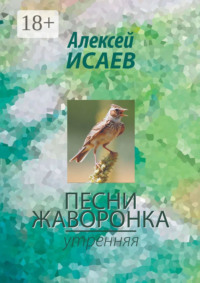Полная версия
Песни жаворонка. Вечерняя
Мама брела, не чуя ног, спина перестала ныть, плечи совсем задеревенели. Мешок не давал распрямиться, что и к лучшему: дорога была не ровная, а в темноте и вовсе еле различима. Если бы не снег по сторонам, ее вообще нельзя было различить. Когда силы, казалось, совсем иссякали, читала молитвы. «Вокруг темно и в глазах темно, а я всё иду и иду, – рассказывала мама, – ни зверей не боюсь, ни людей, главное, не споткнуться бы, не упасть. Чувствую, сейчас не поднялась бы».
Поднялась бы, как не подняться?! Дом, считай, рядом, это радовало и заставляло сердце сжиматься в комок от мысли: как там, дома, ведь уезжала на сутки, и вот уже третьи на исходе. Небось, все голодные… А то, не дай Бог, еще что хуже могло случиться. Толя обещал за ребятами смотреть. Старается, за отца остался, да сам еще нуждается в догляде, всего-то тринадцатый год доходит. На свекровь надежды мало. Честно говоря, после одного случая мама попросту не доверяла ей. Живет и пусть живет, все-таки свекровь, ее почитать надо. А та и сама не проявляла инициативы – ни в доме прибрать, ни супу или каши сварить даже не бралась. С нами водилась, можно сказать, по нужде: мама после родов не долго отдыхала, такой разврат не допускался колхозным распорядком: два—три месяца покормила младенца – будь добра принимайся за работу. Вот бабка Катюха и оставалась с нами. Хотя у нее самой было двое детей – сынок Санёк и дочка Рая, нянчить детей она не научилась. Ваню так занянчила, что у него на спине образовалась шишечка – небольшая, сразу не заметишь, однако вдруг дала о себе знать. Всегда был Ваня спокойный, а тут плакать стал, кукситься, словно что-то мешает ему. Перестал вставать на ножки.
Мама была в панике, обнаружив причину. Надо принимать меры, а отец, как всегда, был вне досягаемости ее молитв. Вся надежда на своего отца – деда Ефима. Отговариваться он не умел, ситуацию оценивал быстро и решение принимал без лишних слов и окончательно. Запряг он колхозного Серка, накосил свежей травы, увязал на тележке возок и отправились в путь.
Сначала заехали в Турунтаево, в больницу. Врач Надежда Васильевна выдала направление в Томск и, как по волшебству, мама попала на прием к замечательному детскому врачу Геннадию Евгеньевичу Сибирцеву. По нынешним временам попасть простому человеку на прием к профессору и получить исчерпывающую консультацию, не имея денег, не реально. Видимо, тогда доктора любого уровня выполняли свои обязанности не от значимости клиента, а от необходимой помощи больному. Не потому ли мама, вернувшись, рассказывала о приеме у знаменитого доктора как об удачном случае. Таков был нравственный уровень врачей. Мама никогда не хвасталась, что ей удалось пробиться к самому профессору, но хорошо помню ее рассказ, как она была обворожена его простотой и вниманием. После приема она чувствовала такое облегчение, словно после общения с батюшкой в былые времена в краснодубравской церкви. А главное – он реально помог.
Мама рассказывала:
– Раздела Ваню, дохтор оглядел и говорит: «Какой упитанный мальчик». Я молчу, а про себя отвечаю: «На картошке отъелся».
Она не знала, что на картошке можно пополнеть, да еще как!
– Помял шишку на спинке, покачал головой, поворчал, посетовал на няньку: «Разве так можно обращаться с ребенком! У него ж позвоночник нежный, неокрепший, по сути дела – хрящ, чуть перегнешь спинку – вот вам и горб. А это инвалидность на всю жизнь». Я похолодела, не знала, что сказать. А он словно услыхал меня: «Ну не надо так переживать, уважаемая, – говорит так мягко, так душевно. – Вылечить можно, но не быстро. Если последуете моим советам, Ваня месяца через два встанет на ножки». И тут я не выдержала: «Да у нас в деревне нет больницы, как же лечить, где лекарство взять?» – «А тут никаких лекарств и не требуется, вы сами справитесь: каждый день утром и вечером – теплая ванночка с солью и массаж. После – туго спеленать и в кроватку, только на спинку. Следите, чтобы спинка всегда была прямая. Перинку или ватный тюфячок уберите». – «Какая перина, – говорю ему, – наволочка с сеном!» – думала разжалобить, а он: «Вот и отлично!» Уже у двери окликнул: «Прежнюю няньку увольте, запретите даже прикасаться к мальчику!»
Мама не знала, что сказать: попробуй уволить свекровь! Как вернулась на постоялый двор, уже и не помнит, словно на крыльях летела. Потом долго вспоминала, сказала дохтору «спасибо» или так ушла на радостях?
Совсем недавно я нашел подтверждение маминой догадке, удивительно точно уловила она, откуда у него такая добрая душа: будущий знаменитый «дохтор» родился и воспитывался в семье священнослужителя, окончил духовное училище, затем поступил в семинарию. Однако оставил ее, решив, что его стезя – не в духовной помощи страждущим, а в телесной. Одному Богу известно, как он надумал из Вологодской губернии уехать в Сибирь, в Томск. Окончив здесь Императорский университет, он на всю жизнь стал детским доктором, причем специалистом по инфекционным заболеваниям. Как он принял «непрофильного» больного мальчика, не трудно догадаться: воспитание и долг врача не позволяли отмахиваться от пациента, даже если он не его больной. Конечно, он без труда оценил состояние мамы и не мог отправить ее по необходимому адресу, в другой конец города.
Пытаюсь восстановить в деталях мамину поездку в Томск и расписываюсь в беспомощности. Мне не хватает чувств точно пережить то, что пережила и прочувствовала она. Причем без какого-либо сомнения в необходимости того, что она делала. Сообщение тогда с областным центром было только гужевым транспортом, на лошадях. Путь не близкий, почти 70 километров. Сама поездка для мамы стала испытанием: она еще не бывала в большом городе. Хорошо, что дед вошел в положение.
За сутки дорогу не осилить, значит, приходилось им где-то ночевать. Приезжие в городе останавливались на постоялом дворе, располагался он не в центре. Однажды и я побывал в нем, когда приезжали с мамой за Ваней, который учился в школы—интернате глухих детей. Слух он потерял в десять лет от менингита.
Район постоялого двора запомнился своей живописностью: двухэтажные старинные особняки, украшенные резными карнизами и наличниками, рядом – Белое озеро, до сих пор культовое место горожан.
Маме же было не до красот: дед остался при лошади, а она, подхватив полуторагодовалого Ваню, отправилась по указанному адресу. На общественный транспорт надеяться не приходилось. Топала на своих двоих. «Ох—х—хо, – вздыхала она, рассказывая, как искала больницу, и всякий раз отмечала, что ей было тяжело нести сына на руках: «Даже мешок с картошкой нести было легше, тот лежит на плече и лежит, а этот норовил выскользнуть, все руки оттянул». Лето в Сибири жаркое, туалета не найти, воды попить и то негде, пыль, пот…
– Никак сам Господь Бог, – подчеркивала она в разговоре, – надоумил меня поехать в город, не то был бы Ваня сейчас не только глухой, но и горбатый.
Как бы то ни было, мы подросли, Ваня поправился, окреп, шишка исчезла, был неугомонный, приноровился взбираться на русскую печь, где облюбовал себе спальное место и место для игр. Я не скоро составил ему компанию, так как подняться туда было боязно, в любой момент мог сорваться, а рядом стояла железная печка, на которой постоянно что-то варилось и кипело…
В этих раздумьях—воспоминаниях мама подошла к таежке. Ручеек струился шириной в два шага, а пойма раскинулась широко, от ельника здесь всегда было темно и жутковато даже днем. Но маму ничто не страшило. Звери водились за деревней, в настоящей тайге. Вот там легко было нарваться даже на медведя. Дядя Лукаш, рисковый охотник, наш родственник, добыл одного, освежевал, мясо съели, а шкуру набил травой и чучело выставил в палисаднике. Мы все равно боялись зверя, оскалившего рот с клыками в палец и цепкими черными когтями, поэтому чучело обходили стороной. Хорошо, что моль скоро съела шкуру медведя.
А вот Толя с отцом чуть было не попали в медвежьи лапы. Пошли собрать кедровых шишек. Набили полмешка и заблудились. Куда ни пойдут, все равно выходят на прежнее место, то есть ходили кругами. «Небось, нечистая сила кружила», – говорила бабка Катюха. Толя решил забраться на дерево, чтобы сверху разглядеть, куда идти. Сучки у зрелого кедра обычно располагаются высоко, забраться не просто. Первый же сучок, до которого дотянулся Толя, сломался, треск гулко разнесся по тайге, словно выстрел прозвучал. В ответ откуда-то послышался недовольный рык. Толя поехал вниз, прижимаясь всем телом к шершавому стволу дерева. Рубашка задралась, живот, грудь и все прочие контактные точки остались без кожи. Боль он почувствовал только тогда, когда неожиданно выбежали на опушку леса. Деревня оказалась совсем рядом. Мишка не стал их преследовать – напугал и остался, видимо, доволен, что теперь за его орехами сюда никто не придет. Но люди все равно ходили в тайгу. До сих пор я обожаю кедровые орехи, хотя цена их не всякому пенсионеру по зубам…
Мама не успела спуститься к таежке, как вдруг что-то заставило ее встрепенуться и поднять голову. В небесах творилось невообразимое: с неба спускались багровые складки гигантского занавеса, они то сходились, то разбегались волнами, между ними колыхались полотнища более нежных цветов. Представление завершилось также неожиданно, как и возникло, лишь по всему небесному своду теперь недвижно высились могучие столбы, словно только что обожженные на костре. Если и были до этого какие-то звуки, мама их не слышала, скорее всего, просто не обращала внимание. Теперь же она всем существом ощущала окружавшую ее абсолютную тишину. Только сердце – тук—и—тук, тук—и—тук.
В разгар войны небо в наших местах стало часто расцвечиваться северным сиянием даже летом. Причем не веселым, игривым, как бывало иногда до этого, а в трагически бордовых и алых тонах, и, наигравшись, замирали. Однажды и мы с Ваней, возвращаясь ночью от деда Ефима, были застигнуты внезапным появлением огненно-бордовых столбов. Они нависали над нами с недобрым намерением. При их появлении даже собаки забивались вглубь дворов, прикусив языки. Люди переговаривались шепотом, крестились. Считалось, что это – недобрые отсветы войны. Мама быстро проговорила молитву, надеясь на божью милость: отец давно не писал, и любую примету она непроизвольно связывала с худшими ожиданиями. Огненные столбы, подпиравшие небо, не примета – целое знамение…
Преодолев минутное оцепенение, она устремилась к таежке. И тут произошло чудо: ее мешок вдруг поднялся над головой. От неожиданности, потеряв равновесие, она чуть не упала.
– Не бойсь, тетка Зина, – послышался за спиной знакомый голос. – Это я, Андрей…
Андрей – мужчина лет двадцати пяти, рослый детина, с начала войны он почти все время проводил в нашей деревне и в окрестных лесах. Выдавал себя за охотника, хотя ни оружия, ни документа у него не было. Ставил силки на птицу, петли на зайцев, капканы – на мелкое зверье. Мы не видели его трофеев, говорил, что шкурки сдает на какой-то приемный пункт чуть ли не в райцентре. Был веселый, общительный. В банные дни приходил помыться. Мама стирала его белье, прожаривала над каменкой одежду, которая кишела вшами. Боялась, что они расползутся по всему дому, но не могла отказать человеку в помощи, пусть и чужому.
Узнав, кто идет впереди, Андрей неслышно, по—охотничьи, подошел к маме, и когда она попросила Господа помочь ей в остатке пути, легко подхватил мешок и закинул себе на плечо. Мать только ойкнула. «Не бойсь, тетка Зина, это я, Андрей…» Его слова вернули ее к реальности…
Таких охотников, я думаю, слонялось немало по сибирским деревушкам и лесам, то были обыкновенные дезертиры, отлынивающие от войны. «Промышлял» не один он, захаживал «охотник» Илья, длинный, худой мужик лет на десять постарше Андрея. Тот обслуживал себя сам: варил все, что добывал – зайца, лисицу, колонка, вонючего хорька. Мама брезгливо смотрела на его трапезу. Ночевал он редко, в бане не мылся, поев, сразу уходил в лес. После войны этих промысловиков никто не видел…
На всем пути, рассказывала мама позже, одолевала ее уже неотвязная дума: как вы там, небось, голодные и холодные, ведь почти ничего не оставила из съестного. Непонятный вопль, ударивший по мозгам, от которого подкосились ноги, и она упала на ровной дороге, затем эти горящие столбы северного сияния вселили предчувствие чего-то неотвратимо опасного, отчего невидимое шило вонзалось в сердце. Все списывала на чрезмерную усталость, пыталась подбодрить себя приятными воспоминаниями. Крутились они опять же вокруг нас, ребятишек. Даже тревога за мужа отошла куда-то в сторону, уверилась, что с ним все хорошо. Другое дело – дети: малые, голодные, несчастные, беззащитные…
В доме светилось окно, значит, ждут, не спят. Но почему? Керосин берегли, зря лампу не зажигали. Предчувствие беды сжало сердце. В дом не вошла – вбежала…
Бабка Катюха сидела на кровати, баюкая Ваню, сумрачно посмотрела на маму, ничего не сказала, а только покачала головой и приложила конец платка к глазам. «Че с ним? Живой? Заболел?» – тревожно спросила мама, боясь ответа. Вместо ответа бабка заголосила: «Ой, Зенка, бяда, он тока—тока уснул». У мамы отлегло, бросилась к кровати, приложила руку к Ваниному лбу, он был горячий.
Произошло то, чего побаивался я. Ваня, слезая с печи, сорвался и ударился о железную печку, сбил чугунок с кипятком и обварил спинку, попку и ноги, все покрылось волдырями…
Спасибо соседке тетке Лене. Услышав истошный крик, та прибежала к нам и всю непростую операцию взяла в свои руки. У нее оказался в запасе гусиный жир… Мамина мать, наша любимая бабока Матрена, тоже не осталась в стороне: принесла хлеба, с пяток картошин, бутылку молока и последний в заначке кусочек свиного сала…
Информация к размышлению: в мешок обычно засыпали четыре ведра картошки. Можно было и все пять затарить, но, чтобы не надрываться, ограничивались четырьмя. Это минимум килограммов двадцать пять. С такой ношей мама отмерила примерно пятнадцать километров.
Позднее она рассказывала:
– Уснуть долго не могла, Ваня постанывал, я прикладывала ко лбу компресс, смачивала губы. И неожиданно сама заснула рядом с ним, словно провалилась. Сколько проспала, не знаю, проснулась, будто хто-то кулаком в бок толкнул. Открыла глаза, смотрю в окно, а на небе звезды мигают и ни облачка. Никак мороз к утру ударит! Думать некогда, накинула куфайку и побегла к отцу…
К утру дед Ефим вывез картошку и старика Желтякова, всю ночь простоявшего в дозоре. Мороза большого не было, для подстраховки он всю ночь жег костры вокруг воза с картошкой, но ни одной картошины не испек.
– Вот те хрест! – заявил он сразу же при встрече с матерью, хотя об этом она не спрашивала.
Зеленая тетрадь в клетку
Первые строчки этого рассказа я написал очень давно. Загорелся вдохновенно, пылко, как сухая трава весной. Еще бы! То, что произошло во время обычной прогулки по Московскому кремлю, меня настолько поразило, что не скоро пришел в себя. Помню, целый день просидел за столом, исписал ученическую тетрадь, а приемлемых строчек удалось найти всего-то несколько. Говорят, начало – половина дела, а оно мне никак не давалось. На том мой творческий порыв угас, зеленая тетрадка в клеточку долго лежала на столе, на видном месте, и как-то незаметно утонула в архивных бумагах. Думал, отложил на короткое время, а оказалось – на полвека.
Вспомнил о нем совсем случайно. Перед сном решил что-нибудь почитать. Взгляд остановился на романе Ивана Ефремова «Лезвие бритвы». Читал его в сокращенном виде в журнале «Новый мир», выдавали его на сутки. Открыл книгу наугад и замер от неожиданности. Читаю: «Молодежь находит безмерно скучным всякую попытку понять старших… Только после тяжелых потрясений вы приходите к следам нашей жизни чуткими и просветленными. Тогда раскрывается перед вами мать или отец совсем другие, и оказывается, вы их совсем не знали…». Ошеломленный, я отметил закладкой страницу, встал с кровати, отыскал зеленую тетрадку, читаю: «Ах, мама, мама! Двадцать пять лет жил с тобой и не знал тебя по-настоящему. Прости и благослови…» Именно на этих строчках оборвалась моя рукопись.
Учился я тогда на третьем курсе университета, каникулы проводил по обыкновению в Сибири. Мама давно хотела побывать на своей малой родине, которую покинула лет тридцать назад. Родилась она и полжизни прожила в пензенском селе Красная Дубрава. И вот перед моим отъездом она наконец-то решилась. Разволновалась, а когда я принес билет, совсем голову потеряла. Спрашивала, во что одеться, во что обуться, что с собой взять? Кое-как уговорили не брать лишнего, вроде трехлитровой банки соленых огурцов.
По дороге в Москву она непрестанно пускалась в воспоминания, которые я слышал уже многократно. Некоторые, подзабытые эпизоды просил повторить, уточнить детали. Ведь именно в них – суть расследования, как нас учили на факультете журналистики. Часто мы смеялись, нам никто не мешал, и мы никого не стесняли, потому что ехали весь путь в купе вдвоем: начало сентября, все вернулись из мест отдыха, теперь дома опекают детишек. Проводница Люба, симпатичная, средних лет сибирячка, поначалу с любопытством заглядывала к нам, потом привыкла и с удовольствием слушала мамины рассказы, угощала чаем, а мы ее – смородиновым вареньем. Узнав, что я – студент МГУ, уважительно посмотрев на меня, на маму, спросила, как мне удалось поступить? «Или кто-то помог: может, мама учительница, папа начальник или состоятельный дядя в столице?» – весело предположила она. Мама усмехнулась. Потом призналась, что ей смешно стало, представив себя учительницей, а отца – начальником с портфелем.
– Да, она – учительница, еще какая! – поддержал я шутливый настрой разговора, так как вспомнился «урок», преподанный мамой, который в самом деле стал для меня важным. Заканчивал я тогда четвертый класс, учился хорошо. Вот только арифметику запустил и поэтому боялся приближающихся экзаменов. Весь год я валял дурака, выкручивался с помощью дружка – соседа Володи Жукса. Его семья только—только переселилась из Латвии, мы подружились, вместе ходили в школу, сидели за одной партой. Я помогал Володе по русскому языку, Володя мне – по арифметике.
В тот день я уныло копал землю под картошку, размышляя о трудном положении, в которое попал по своей лени, когда пришла мама, как всегда, уставшая, и, поплевав на ладони, взялась за лопату. Было жарко, меня разморило, ребята наверняка весь день провели на речке – купаются или пескарей ловят. Накануне пришло письмо от Толи, интересно писал он о пограничной службе на Курильских островах. Вот где рыбалка! Писал, что горбуша с кетой надоели до чертиков, от крабов тошнит, очень соскучился по нашей картошечке. Толя после пятого класса оставил школу, так как отец ушел на войну. Словом, старший брат остался за отца… И тут меня осенило. «Мам, – робко начал я, – а что если я не пойду больше в школу, тебе же помогать надо». Маму словно током пронзило, опершись на лопату, выпрямилась и так посмотрела на меня, что я не знал, куда деться. «Вон чё удумал! – негромко сказала она, однако по голосу я понял, что затеял разговор не вовремя и не к добру. – Счас вот лопатой как…» Но тут же сбавила тон, видимо, подействовал на нее мой жалкий вид. Опустила лопату, концом платка отерла запекшиеся губы и так проникновенно стала говорить, что у меня слезы навернулись: «Ох, Алешунька, картошку сажать—копать трудно, конечно, как-нибудь справимся, не в первый раз, а вот без школы не проживешь. Будешь, как я, с утра до ночи где-нибудь грязь вывозить. Грамотный человек всегда работу получше и почище найдет. Я до сих пор горюю, что не дали мне выучиться. Нет, Алеша, учись, пока я жива. Умру – все равно учись».
Я опустил глаза, скрывая слезы. А мама, как ни в чем ни бывало, сказала: «Устал, небось, иди на речку, искупайся, я сама докопаю».
Так сорвалась моя попытка увильнуть от экзаменов. Пришлось просить Володю стать моим репетитором. Мой дружок оказался способным педагогом. Несколько дней спустя, я самостоятельно сделал домашнее задание. Не поверив в чудо, взялся еще за одну задачку. Эта попалась заковыристей первой, попросил маму помочь. Никогда не просил, а тут решился, вдруг справится. Она раскусила задачу, как белка кедровый орешек. Помню, это меня удивило: всего-то три класса церковноприходской школы окончила, а я заканчиваю четвертый класс, причем советской школы! Мне стало стыдно. Разжевав задачку с маминой помощью, я почувствовал необыкновенный вкус к арифметике. В тот вечер решил еще несколько задачек самостоятельно и уже не боялся надвигающегося экзамена. С того дня не только арифметика, но и вся школьная математика – алгебра, геометрия, особенно тригонометрия стали для меня любимыми предметами. А вместе с ними и русский язык, и литература, и физика с химией! С нескрываемым удовольствием ходила мама на родительские собрания. Но никогда не сказала мне вслух, какой я умница. Просто не принято было у нас расточать высокие слова.
Все это я не рассказал проводнице, лишь похвалил учителей: это их старанием почти все выпускники нашего класса поступили в вузы и техникумы.
Никогда раньше мать не рассказывала о своих «университетах», а тут я вынудил. Оказалось, что церковноприходская школа – ЦПШ – далеко не примитивное, как иногда можно было слышать от доморощенных атеистов, учебное заведение. Основными дисциплинами были Закон Божий, церковно—славянский и современный русский языки, арифметика. Преподаватели никому спуску не давали. Немало слез бывало выплакано, пока учитель не поставит «удовлетворительно», оценку «хорошо» получали редкие счастливчики, в их числе пребывала и мама. Давалась учеба ей не то чтобы легко, но училась она с удовольствием, в училище ходила с радостью. А вот ее однокласснику Саше Исаеву, Саньку, как его все называли, этот первый и единственный класс запомнился на всю жизнь серьезным испытанием. Особенно Закон Божий. К изучению основ религии, порядка исполнения церковных служб, заучиванию молитв педагоги относились строго. Их самих нередко навещали инспектора, и не дай Бог кто-нибудь из учащихся не ответит на дежурный вопрос. Мама частенько выручала своих учителей – на любой вопрос поднимала руку. Заступлюсь за будущего отца: арифметика для него была любимым предметом, другие же предметы приходилось брать терпением, которого подчас не хватало. Уверен, если бы он продолжил учебу, освоил бы и Закон Божий и все другие науки. Позднее, уже в Сибири, он быстро освоил всю эмтээсовскую сельхозтехнику, ремонтировал самые безнадежные двигатели.
Иногда мама рассказывала мне библейские легенды, было интересно слушать о чудесах, но никак не мог поверить, например, что пятью хлебами и несколькими рыбами можно накормить тысячи человек или запросто, одним словом, воскресить умершего какого-то Лазаря. Пять буханок, которые мама выпекала еженедельно, едва хватало нам. С малых лет мы усвоили, что Закон Божий, о котором мама отзывалась с восторгом и благоговением, – обман, и вообще религия – опиум для народа. Значит, в ЦПШ детям дурили головы, отвлекая от борьбы за светлое будущее и лучшую долю. Частенько можно было слышать пренебрежительное: что с него взять – ЦПШ!
Вернулась мама из Красной Дубравы неожиданно быстро, рассчитывала пожить с месяц, а приехала через неделю и несколько удрученной. С Павелецкого вокзала привез я ее в общежитие на Ленгорах, окно комнаты на тринадцатом этаже выходило на Москву. Мама не скоро оторвала глаза от ее потрясающего вида.
О поездке мама рассказывала мало и неохотно: «Подрух уже никого в живых не осталось, сродная сестра почти не подымается, хвора́я. Поговорили, поплакали день – другой, повспоминали дни молодые – и всё тут, сидим, горюем, обе не знаем, че спросить, че сказать, куда сходить. Спасибо, церковь не закрыта, каждый день ходила, жалко, училища при церкви уже нет». Зашла на кладбище. Вот там-то она и повстречала всех – и подруг, и родных, и первых активистов советского строя. Всем нашлось место, и со всеми она поговорила, никто не обиделся. Мама еще находила силы пошутить. И тут же подытожила: «Съездила, словно перед смертью попрощалась».
– Мам, ну что ты убиваешься, – приобнял я ее в нечаянном порыве, – неужто ты думала увидеть прежнее село? И себя с отцом где-нибудь в овражке, а? – От неожиданного поворота разговора у нее даже слезы просохли.
– С Саньком мы не гуляли, у меня на виду другой парнишка был, но и с ним не гуляли, не смели.
И тут я попросил ее рассказать, как они поженились. Конечно, кое-что мне было известно, мама кому-то рассказывала, а я делал уроки и слышал кое—что. Однако потом мне было неудобно спросить о подробностях, а тут вроде само собой получилось.
– Как—как? Да нас нихто не спрашивал.
По сути дела, ничего нового она не добавила к тому, что я уже знал, но все же воспоминания освежили немного натянутую атмосферу, и мама стала отходить от грустных впечатлений, вывезенных из ее любимого Красного.
– Исполнилось мне шестнадцать, собираюсь идти спать в подклеть, слышу, отец с матерью что-то заспорили. Мать никогда голос не повышала, а тут громко заговорила – и в слезы. Поняла: обо мне речь идет. Оказывается, меня уже просватали, мой отец и Саньков успели сговориться. Небось, выпить захотели, вот и нашли причину – поженить нас. Утром я долго не вставала, думала о замужестве и не верила, надеялась, что все обойдется, отец одумается, но тут приходит мать. «Пойдем, – говорит, – сваты пришли». У меня в глазах все померкло, уткнулась лицом в подушку. Мать по голове гладит, успокаивает. Пришли в дом, старики сидят за столом, стаканы с вином в руках, уже веселые. Бабы шушукаются у печи. Сговорились скоро, меня для вида спросили, согласна ли я? Ничего я не ответила, заплакала. Это, наверно, приняли за согласие. Старики чокнулись, мама заголосила, запричитала: «Погодить бы надоть, девка-то еще голым – гола!» – «Гола, гола – обрастеть!» – отшутился отец. Мол, приданое соберем, не проблема. Так и началась для меня самостоятельная жизнь… Слава Богу два года без детей прожили. На девятнадцатом родила, и сразу двойню – девочку и мальчика. Ой, какие хорошенькие ребятки были. Умерли, шести годков не исполнилось. Всего восьмерых родила, в живых остались трое, а по ним, по первенцам, всё горюю…